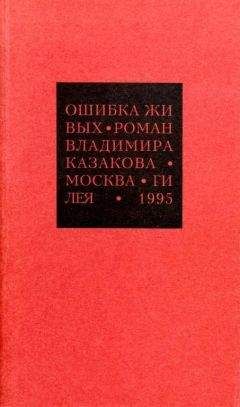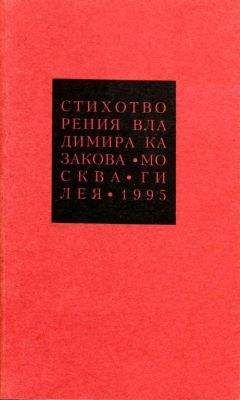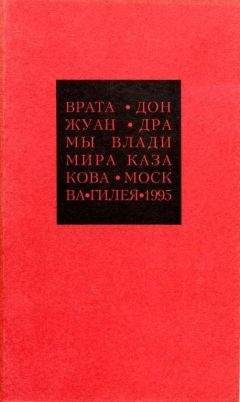Сестра принесла чай. Время темнело из своего угла. Жених был слеп на одну половину. Сестра подвела его к себе, прижала к груди. Нити протянулись от чая к другим мирам. Цветок голубел, как безумный.
Небо было полно сониного мерцания. Другой цветок умер, я так и не узнал его цвета. Жених потянулся к лучам и вдруг поранился о стекло. Узкое лезвие спряталось мгновенно, зеркало брызнуло кровью, часы побелели. Часы побелели, как смерть. Я сжался в комок в своем углу. Увидя кровь, сестра стала в отчаянии ломать руки. Жених натолкнулся грудью на угол и ослеп на вторую половину. Сразу же ярко вспыхнули звезды, и он, вытянув перед собой руки, пошел прямо на них.
18 октября.
Соня молчит. Я спрашиваю ее, чтобы только услышать ее голос. Эта темнота, полная самой себя и молчания!
19 октября.
Плач сестры истерзал мне душу. Наконец, я не выдержал и выдержал. Я подошел, стал гладить ее русую голову. Покорные волосы шелковисто гладили мою руку. В воздухе с лязгом скрестились два шрама. «Сестра!» — подумал я почти вслух.
Я смело встретил свой взгляд. Зеркало отразило меня всего, вплоть до мыслей.
Она улыбнулась себе самой. Часы измерили секундами ее улыбку. Странное это дело — жить в комнате, где есть часы! По-моему, они отпугивают время.
Я молчал. Она была неподвижна. Я повторил свое молчание. Она посмотрела в окно, прикрыв ладонью глаза, словно боясь их поранить о звезды. Небо тяжело навалилось на подоконник грудью ночи. Я не знал, исчез я или остался в комнате. Посмотрел в зеркало: исчез.
20 октября.
Странное ночное общество. Желтый болезненный свет плавает в табачном дыму. Женщины накрашены. Лица — белые, губы — синие, волосы — красные. Их черные брови и ночь сливаются в огромные большие пятна. Окно никуда не смотрит. Ему замазали глаза белым.
Гречанка улыбается мне, казалось — сквозь собственную смерть. Черная крашеная слеза висит на конце ее взгляда. Она тянет ко мне синие губы, возле них медленно закатывается хмельной глаз. Я прижимаю ее к себе, мой голос хрипло поднимается по тяжелым ступеням.
— Сколько тебе? — спрашиваю я.
— 300, — отвечает она.
— Рублей или лет?
— Ни того, ни другого... любимый!..
Мы погружаемся...
У другой — два страшных огромных глаза, а ниже — упираясь локтями в стол, белое с синими губами лицо. На столе граненое вино темнеет, как красные сгустки. Она улыбается мне медленной покачивающейся походкой. Я беру в руки хлыст, стены пригибаются...
23 октября.
Я люблю красное вино. У него — цвет. Хлыст оставляет красную полосу на белой коже.
Этот крик был бы душераздирающим, имейся вокруг хоть одна душа. Женщина упала, и на ее месте осталась рассеченная надвое темень. Я отбросил хлыст. Рассеченное время корчилось, как две огромные половины червя.
Я, не оборачиваясь, видел спиной гречанку. Голая, она стыдливо прикрывала меня своей наготой. Другая лежала на полу, держа окровавленными пальцами страшное, никому не известное лицо.
Конец октября.
Я сижу у Витковских и слышу, как мне говорят, что я очень бледен.
Я иду по улицам. Кажется, ночь. Я устал. Два-три фонаря. Что-то стремительное, сверкающее, как Эвелина. Что-то усталое, медленное, как я. Это мы. Она обращается ко мне. Я обращаюсь к себе. Но мы оба не получаем ответа.
От фонарей подуло холодным светом. От окон, от стен — от всего. Я знаю один темный кривой переулок. Я свернул в него. Никого нет. Никто не окликнул.
Левицкий, Мария, Куклин — я вижу их, как во сне, как наяву, как... в другой жизни.
Вдруг дождь исчертил небо, как тысяча шрамов от хлыста. Я холоден, я даже не чувствую ледяной воды.
Сумрак в том дальнем углу гостиной зовется Истленьевым. Лампа достает до него и нащупывает пустоту. Достает до меня и... сразу отдергивает лучи. Я смеюсь тихо, неслышно, никого не пугая. Я боюсь пугать...
ЛЕВИЦКИЙ
Я сразу же окликнул его, но это оказался не я.
МАРИЯ
Да?
ЛЕВИЦКИЙ
Да, несмотря на несходство.
КУКЛИН
Такое бывает в дождь. И не бывает тоже в дождь. «Куда вы?» — спросил я, задыхаясь, себя. Он-я на ходу ответил: «Не помню!»... Улица со свистом пронеслась мимо.
ЕКАТ. ВАС.
Это несколько сложно для меня. Не могли бы вы пояснить вашу мысль?
КУКЛИН
К сожалению, я уже забыл. Но я готов пояснить что-то другое.
ЕКАТ. ВАС.
Благодарю вас. Теперь мне все ясно...
Что мне говорить? Я не знаю. Поэтому я молчу. Что мне говорить? Я не знаю. Поэтому я молчу. Которая из этих двух строчек удачнее? Пожалуй — вторая.
Соня сама пришла ко мне. Нашла мой этаж. Я пригласил ее сесть, сказал: «Соня, я очень рад», придвинул к ней стул. Сам сел на край койки.
Она так растеряна и смущена, что ничего не видит.
Я хотел сделать или сказать что-то очень холодное. Например, коснуться.
Из дневника Марии
29 августа.
Ночь, молчание. Призрачный чугун мостов. Странное я получила письмо. Почерк — ничей.
Сегодня были Эвелина, Истленьев, Левицкий и другие. Ее плечи струятся от золота, взгляд — безумный, прекрасное лицо устало от ресниц. Воздух касается ее и, шатаясь, идет, уходит грезить к стене. Истленьев не сводит с нее своего молчания, бледный и прозрачный, как воздух. Время ластится к ее сверкающим волосам и струится. Молчание смотрит на себя в зеркала пристально до головокружения.
ЛЕВИЦКИЙ
Странно ведет себя полночь! Часы пробили, а ее нет.
ЭВЕЛИНА
Странное опоздание! Цифра 12 повисла в пустоте. У меня было предчувствие, и было предчувствие предчувствия... Куклин, вы только что с улицы. Что там происходит? Я ценю ваше красноречие, но, пожалуйста, будьте кратки!
КУКЛИН
Мое красноречие? Ах, Эвелина, о чем там говорить!.. Быть кратким? Пожалуйста: гм.
ЭВЕЛИНА
Я так и предчувствовала. Но что ж, это не так страшно, как хотелось бы. Простое «гм». Значит, полночь скоро появится, стремительная, задыхаясь и звеня звездами, как цыганка...
ЛЕВИЦКИЙ (восхищенно)
Эвелина, вы сегодня — сегодня!
КУКЛИН
(в сторону) Безумная! (не в сторону) Да!..
Сумерки так пристально смотрят из своего угла на Эвелину, что начинают принимать очертания Истленьева.
ЭВЕЛИНА
Владимир Иванович, скажите, вы скучаете по Швейцарии?
ИСТЛЕНЬЕВ
Да... нет...
ЭВЕЛИНА
Мне все понятно... И сильно?
ИСТЛЕНЬЕВ
Эти горные пейзажи, признаться... я...
ЭВЕЛИНА
Вы?
ИСТЛЕНЬЕВ (тихо)
Нет.
КУКЛИН
Я скучаю по Швейцарии, хотя и никогда там не был... Удивительная страна! По ней все тоскуют, кроме, конечно, швейцарцев.
ЛЕВИЦКИЙ (имитируя Истленьева)
Эти горные пейзажи, признаться...
ЭВЕЛИНА
Не смейтесь! Вы, Александр Григорьевич — швейцарец, поэтому и не тоскуете.
ЕКАТ. ВАС.
Как, швейцарец? Вот новости! Разве не англичанин?
ЛЕВИЦКИЙ
Турок, (в сторону Турции) Гм...
Эвелина проходит мимо зеркала. Оно вспыхивает и гаснет. Навстречу ей в дверях стоит Пермяков. Он бледен, как смерть, и так же неподвижен... Какие странствия проделал он, прежде чем очутиться здесь?
ЭВЕЛИНА
Вы?!
ПЕРМЯКОВ
И да, и нет.
ЭВЕЛИНА
Но больше, кажется — да.
ПЕРМЯКОВ
Больше, чем что-то, но меньше, чем нет.
ЭВЕЛИНА
Вы так бледны! И ваша бледность сама ужасается себя... Она так смотрит!
ПЕРМЯКОВ
Мне нужно немного темноты...
Он идет и садится в кресло в своем углу. Угол Истленьева и угол Пермякова — к этому все привыкли. Их молчания сливаются, как две темноты.
12 сентября.
Вокруг меня шум, беспорядочный звон, разговоры. Куклин — навеселе. Навеселе — Мелик-Мелкумов и Острогский. Казаков наизусть читает «Детусю» Хлебникова. Левицкий повсюду следует за своими усами. Эвелина вся залита светом. Пермяков одной половиной своего лица усмехается другой половине. Я тоже выпила бокал шампанского и опьянела...
КУКЛИН
Вы, Владимир Иванович, на меня сейчас так странно посмотрели!
ИСТЛЕНЬЕВ
По-моему, я не смог... так посмотреть...
КУКЛИН
А, впрочем, это ваше дело. Я вам уже столько удивлялся, что, наконец, устал. Я думаю, что вы — человек если не из другого мира, то уж наверняка — в другой мир.
ЭВЕЛИНА
Куклин, ради бога, оставьте в покое все другое!
КУКЛИН
То есть всех других?
ЭВЕЛИНА
Смотрите, какой занозистый!.. Нет, право, не стоит и смотреть!
ЛЕВИЦКИЙ
Екатерина Васильевна, пожалуйста, посмотрите на мое лицо! Вы на нем прочтете тост в вашу честь.
КУКЛИН (в сторону)
Вижу и тост, и шампанское — и то, и другое отлично заморожено.
ЕКАТ. ВАС.