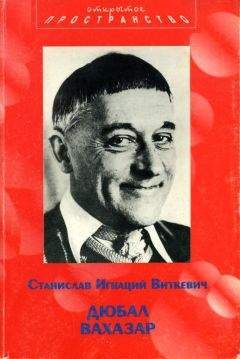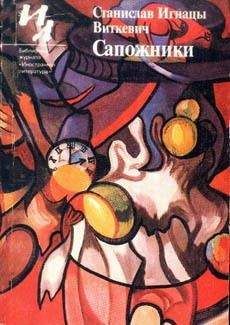С п и к а (ест грибки). Думаешь, приятно получать анонимки, в которых — хочешь не хочешь, а найдешь слова правды (достает из-за корсажа бумагу и читает):
Под крылом искусств изящных
Приголубил Баландашек
Спику Тремендозу.
И хоть был он скот ужасный,
Ей давал такие яства,
Что жрала — мимоза.
И хоть все в ней бунтовало,
Когда кнедлики жевала —
Не любила шика.
Без измены, без позора
(И без повода для ссоры)
На тот свет — поди-ка! —
Улизнула Спика.
Б а л а н д а ш е к (кладет себе грибков). Замысел никудышный, а исполнение того хуже. Вкратце так: я — скотина, а ты мне просто-напросто угрожаешь самоубийством.
С п и к а (прячет бумагу). Не угрожаю. Я могу, как и прежде, быть одинока. Ты ведь знаешь — я ненавижу театральную атмосферу, всю эту так называемую «театральщину». Если б я захотела, у меня были бы тысячи любовников. А я не хочу. Мне нужно хоть немного настоящего чувства. Ты — мой предел. Я люблю тебя, как любила бы своего ребенка, а в ответ — одна неблагодарность. Твои адские эротические затеи, лишенные всякого чувства, — это что-то чудовищное. Ты у меня на глазах раздваиваешься надвое.
Б а л а н д а ш е к (тихо). Хорошо, хоть не натрое.
С п и к а. Не надо шуток. Тот, кто ласкает меня — какой-то ужасный автомат, какая-то похотливая машина.
Б а л а н д а ш е к. Склад резиновых изделий на Пикадилли-Серкус. Лондон. Центр. Знаю.
С п и к а. Мерзкие у тебя шуточки. А я после твоих объятий так распалена, но при этом так измотана, что уже ничего не хочу. И снова люблю тебя, как бедного мальчика, которого хочется убаюкать и угостить конфеткой. Но ты уже опять любуешься на свои картины и опять холоден, погружен в линии и цвета.
Б а л а н д а ш е к (отчаявшись на серьезный разговор). А я — ты думаешь, я не мучаюсь? Во мне и правда — два существа. Тебе это вовсе не кажется — это факт. Я мог бы стать пиратом или даже просто сухопутным разбойником, а не субъектом, пресыщенным красотою, созданной другими. Я ничего не умею и создать не могу. И поверь, мучаюсь ужасно. И только ты одна, моя Спикуся, чуть-чуть заполняешь мою пустоту. Без тебя я иной раз готов взорваться. Потому и хватаюсь за те редкие моменты, когда мне хорошо. Я хотел бы, как брильянт, покоиться в мягком футляре. Но меня мучает мысль: а вдруг я обычное гладко отшлифованное стеклышко, вдруг сам футляр более ценен, чем его содержимое?
С п и к а (пьет вермут). Перестань. Ты слишком запутался в сомнениях. Мне вовсе не нужен художник. Я хорошо их знаю, этих творцов! (Последние слова произносит с невероятным презрением. Вдруг, опершись локтями о столик, с жаром восклицает.) Ах, если б ты хоть раз мог меня поцеловать как любовник, а не как умный автомат. Смилуйся надо мной, Каликст!
Б а л а н д а ш е к (проведя рукою по лбу). Я знаю. Сделаю все, что смогу. Я ведь тоже тебя люблю, Спикуся. Но виноват ли колышек в заборе, что он — именно колышек, а не живая лиана, пожирающая дерево манго?
С п и к а. Почему ты не можешь все принимать как есть? Столько подлинных страданий. Например: мое отношение к тебе. Но ты их вообще не видишь, а сам придумываешь мнимые мучения.
Б а л а н д а ш е к. А ты — принимаешь ли ты все таким, как есть. Меня-то почему ты не хочешь принять таким, каков я есть, и, что хуже всего — таким, каков я был с самого начала?
С п и к а (вставая). Да хочу я! (Отчаянно.) Хочу и не могу. Высечь из тебя хоть искру чувства — ох, что это было бы за счастье! Почувствовать на себе твой взгляд — тот, которым ты смотришь порой на всю эту проклятую пачкотню. (Показывает на картины). Ее ты любишь. Ты изменяешь мне с этими квадратными монстрами, с этими кубистическими обезьянами. А мне оставляешь только свое тело, и оно сжигает меня мучительным, леденящим наслаждением. (Подходит к нему, простирая руки, вдруг останавливается, поникнув; Баландашек встает.) О нет! Не хочу! Будет все то же самое. Меня опять заключит в объятья чудовищная, холодная машина.
Закрывает лицо руками.
Б а л а н д а ш е к (не смея к ней приблизиться). Но, Спикуся! Одно дело Чистая Форма, а другое — жизнь. У них нет ничего общего. Я верю в Чистую Форму в живописи, но не верю в неё в театре, как и ты. Ничто нас не разделяет, кроме твоего дикого бреда. (Горячо, почти с подлинным чувством.) Спикуся! Спикунечка моя миленькая! Я твой и только твой. Будь добра, не отказывай мне ни в чем.
С п и к а (открывает лицо и внезапно прижимается к Баландашеку всем телом). Я люблю тебя, мой бедный мальчик, мой сыночек, как же я тебя люблю! Иногда мне кажется, что если б несчастный Альфред был жив, он был бы таким же, как ты, и я ни в чем не могла бы ему отказать.
Б а л а н д а ш е к (гладит ее по голове, говорит уже совсем спокойно). О! Мне снова хорошо. Почему ты не можешь быть такой всегда? Я бы тоже постарался.
С п и к а (тянет его на канапе). Не говори больше ничего. Опять все испортишь. Я знаю, ты так не думаешь, просто говоришь, повинуясь дурной, отвратительной привычке. На самом деле ты добрый!
Садятся на канапе: Баландашек ближе к залу, Спика дальше. В тот же миг в правую дверь быстро входит М а р и а н н а.
М а р и а н н а. Дети мои, знаете ли вы, что случилось? Сторож соседней виллы, той, справа, с большим садом — ну, той, что неизвестно кому принадлежит, только что мне сказал, что кто-то туда въехал. Во всем доме свет, суета. Видно, как тени бегают по занавескам. Он говорит, что это О н и туда въехали.
Б а л а н д а ш е к. Что еще за О н и?
Слово «Они» все произносят, особо выделяя, с нажимом.
М а р и а н н а. Ну вы же знаете — О н и, главный комитет тайного правительства. Ведь нами управляют именно О н и, а вовсе не те манекены.
Б а л а н д а ш е к. Да что вы плетете, Марианна! Не верю я ни в каких Н и х и ни в каких Т е х. Это все небылицы из газет, оппозиционных режиму. (Задумывается.) Хотя подчас я начинаю верить даже в Э т о, так опрокинуты все наши представления, так вывернуто наизнанку чувство нашей государственности. Скажу больше! Государственности вообще...
С п и к а. А я верю, что О н и существуют. В этом вся прелесть жизни. Мы верили в масонов, верили в евреев с большой буквы Е. Теперь — поверим в Н и х. Нужна же хоть какая-то вера...
М а р и а н н а. Ой, госпожа графиня! Тут не вера. Есть какая-то правда на дне всех этих баек. Мы знаем, кто такие евреи, знаем, кто такие синдикалисты. Но что, собственно, такое О н и — понятия не имеем. Тайное правительство, и все тут. Довольно того, что тайное. Они правят всем, и никто не знает, кто они такие.
Б а л а н д а ш е к. Еще бы — ведь вы, Марианна, все перепутали. Не то они есть, не то их нет — вам все едино. Но ведь если есть, то они должны быть каким-то образом реальны. Вы мне тут, пожалуйста, всякие скороспелые мифы не разводите!
М а р и а н н а. Меняются времена, меняются — вот и все. Недолго вам осталось вылизывать свои галереи. Я-то всегда хороший обед приготовлю. А устоит ли эта мазня перед тем, что грядет! Вот вопрос, вот в чем вопрос.
Б а л а н д а ш е к (Спике). Видишь? Твоя наука превращает пошлый лепет этой кикиморы в вопросы, которые когда-нибудь прояснит история. Ты — элемент упадка, Спикуся! Я всегда это говорил. И все потому, что будучи актрисой, ты подвержена влияниям эпохи. Обречена плясать так, как тебе играют, точнее — играть так, как тебе напишут.
С п и к а. Каликст, умоляю тебя, перестань!
Б а л а н д а ш е к. Не перестану, и да поможет мне Бог. Я всегда был собой несмотря на свою двойственность. Ты знаешь? Я — тот объективный прибор, который наравне с Рембрандтом и Рубенсом ценит Пикассо, Матисса, даже Дерена и Северини. Я всесторонен. У меня на стенке висят все, все без исключения, но — лучшие в своем роде. Я избирательная урна столетий, альфа и омега объективизма. Мои теории не исключают никого, даже Чижевского. Я как дух, который носился над водами во времена хаоса.
С п и к а. Но ты не страдаешь. Ты смотришь на это со стороны. А ведь ты не в театре. Если б тебе пришлось...
Б а л а н д а ш е к. Долой этот твой театр. В театре Чистой Формы нет. Уж это точно. Ты абсолютно не знаешь французской литературы, о Греции не имеешь ни малейшего представления: ты невежда из невежд. Если б ты знала все, если б ты могла вникнуть в то, сколь неисчерпаема каждая из бесчисленных клеточек исторического развития понятий и чувств — более всего чувств, — ты поняла бы, что значит то, что сейчас происходит. Но ты — всего лишь «бедная обманутая коза», как выразился Мицинский в своей «Базилиссе Феофану» — когда Никефор говорит, говорит о ней, о самой Базилиссе.