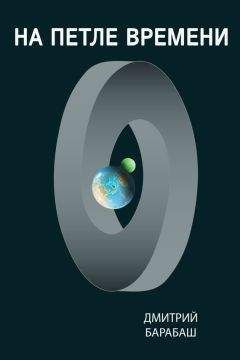Ознакомительная версия.
Эпилог
75
Жизнь коротка,
к сожалению,
к счастью,
по замыслу.
Взгляд снизу-вверх
открывает единственный путь.
Споря со злом,
мы потворствуем сами злу
и подтверждаем его,
грудью идя на грудь.
Щеку подставить?
Да запросто.
Жизнь коротка.
Мы не заметим удара,
пройдем насквозь.
Так же доходят слова до нас
сквозь века —
чистые,
словно воздух и солнце,
и точные, как мороз:
Не убивайте,
не грабьте,
не ешьте так,
словно у вас два тела.
Не плачьте зря.
Празднуйте жизнь
и забудьте напрасный страх.
Все, что стремится ввысь, —
воспаряет вверх.
Все, что плодит земля, —
заберет земля.
Можно наврать
с три короба
с три дворца,
можно одеться в золото,
Богом слыть,
но остается лишь то,
чему нет конца.
Что же за всем этим следует?
Следует жить.
Монино – Москва2013–2014
Следует жить (послесловие Дмитрия Невелева)
Этими словами завершается поэма. Стихотворный роман о России конца XX – начала XXI века, эпохе, в которую целиком вписалось мое поколение, чье время понемногу сходит на нет, освобождая дорогу поколению «обнуленных», как его называет автор. Генерации, охотно играющей на буйно заросших диким бурьяном руинах когда-то обширной и великой красной империи в неведомые нам и кажущиеся бесцельными и бессмысленными игры. Автор замечает, что шустрое потомство,
Котом, мурлычущим в ногах,
Хвост задирает и смеется:
Ты скоро обратишься в прах
И все твое ко мне вернется.
Новое поколение воспринимает мир непосредственно, ему чужда амбивалентность, мир кажется ему привлекательным; ценности самоочевидны, не нуждаются в оговаривании и часто имеют вполне материальное выражение. Потомство считает поколение отцов неврастениками, неудачниками, находящими сложности там, где их и в помине нет. Оно проходит аки по тверди по тем трясинам, безднам и пропастям, которые в свое время казались нам непреодолимыми.
Автор иронично замечает, по всей видимости, адресуя свой упрек новой поросли: Как рассказать тому о целом, кто даже часть не хочет знать. Трехнулевым не нужен наш опыт выживания – его умению приспосабливаться и мимикрировать можно только позавидовать. Наиболее ловкие из них ориентированы на формы деятельности, для обозначения которых мы вынуждены зубрить доселе незнакомые нам английские термины, которые часто и являются единственной сутью этой деятельности.
Герой повествования наивно полагает (и к его положениям автор настроен весьма иронично):
Что воплотится в каждом чаде
Глава неписаной тетради,
Вершина призрачной горы,
К которой я стремлюсь добраться,
И та, которая за ней,
И те, которые за ними -
Вершины мыслящих детей.
Как когда-то «восьмидесятникам» представлялся надуманным и странным драматизированный конфликт эпохи классицизма – неразрешимый без трагедийности выбор героя между честью и долгом, так теперь «трехнулевым» чужда не только мучительная рефлексия отцов, но и традиция самоиронии, «стеба», эзопова языка времен брежневского «развитого социализма» – типичная питательная среда альтернативной культуры восьмидесятых, выросшей из образчиков позднесоветского самиздата.
Природа «демократических перемен» начала девяностых вызывает у автора новую волну иронии:
Продолжается распад
Чтоб из пепла, чтоб из ила
Вырос новый зоосад.
Видимо, здесь не случайно использовано часто повторяемое Иосифом Бродским словечко «распад». Помните, у веницианского виртуоза:
Еще нас не раз распнут
И скажут потом: распад.
Общая судьба всех поколений – переработавшись, стать гумусом, плодородным слоем, на котором вырастут невиданные диковинные цветы нового, чтобы, в свою очередь, лечь рано или поздно в землю. Это закон жизни.
Автор нашей поэмы, не отступая от традиции, сетует от лица стареющего поколения на время, в котором приходится жить:
Раньше люди ненароком,
Попивая горький чай,
Говорили о высоком
И о главном невзначай.
А теперь важнее нету
Темы чем «твое – мое»…
Все это так. Но где прячутся истоки важного для многих стремления представлять себя сверхуспешными и сверхбогатыми? Судя о людях, мы часто исходим из ошибочного предположения, что человек стремится к счастью, хотя множество людей, напротив, хотят быть несчастливыми и пытаются всех вокруг сделать таковыми. В несчастье и неустроенности своей и близких, в болезнях, боли и смерти, в гневе, ненависти и обиде, в невежестве и отсутствии мысли для таких людей затаилась особая прелесть, которая и дает им силу длиться, создает видимость жизни. Это кажется странным, нелепым, но это так. И автор, бросив взгляд на их чаянья и страхи, замечает:
Что гадать, у вашей кошки путь мудрей и краше сны.
Цепочка тварь-тварность-творение-творчество-творец часто обрывается, едва начав выстраиваться. Воссоздание, сотворчество Вселенной, осознанное и интенсивное проживание каждого момента своей жизни возможны только, когда разорван круг животного автоматизма. Читаешь книгу, не видя сути, – глаза проскальзывают по строчкам, пальцы листают страницы, но смысл прочитанного не постигается, сюжет не запоминается, мысль витает где-то далеко – этот повседневный автоматизм жизни знаком многим. Но все ли пытаются его преодолеть?
Рассказчик, от лица которого ведется повествование, совершенно неожиданно и для себя, и для читателя в ходе мистической инициации просыпается, получает опыт осмысленной жизни. Его проводником в новый мир, паче всякого чаяния, становится главный герой произведения. Так находит объяснение прозвище «черный ангел», которым в первых строках поэмы его награждает автор.
Инициация (а это трудно назвать иначе) повествователя происходит без какой-либо подготовки, предуведомлений, как-то буднично. Речь, судя по тексту, идет именно о гностической традиции и для автора, очевидно трезвомыслящего и далекого от эзотерики, этот опыт остается чем-то необъясненным, до конца не переработанным, неосвоенным.
Впрочем, это обыденное недоумение вновь обращенного: что делать с открывшимся знанием, будто пришедшим из ниоткуда, но тем не менее переживаемым достовернее, убедительнее и предметнее, чем собственное существование? Нам новый опыт автора и рассказчика (в поэме они часто сливаются) именно этим и интересен – немного наивной (а другой и быть не может) попыткой описать словами неизъяснимое.
Понимание (это вернее, чем слово «знание») описывается автором так:
Не вдаваясь в хитрые детали,
я скажу лишь, что за пять минут
я узнал так много, что едва ли
сто веков в свои кресты вожмут…
Не в земной и не в телесной власти
рассказать о той бескрайней силе,
но пытаться буду бесконечно
хоть в золе, хоть в слякотной могиле.
Здесь рассказчик только начинает понимать, что и он сам является проводником сокровенного знания, что оно уже растет в нем и ищет выхода, поскольку внутреннее стремление к всеохватывающей и всеосознающей жизни и есть частица того внутреннего напряжения, витальности, которая составляет движущую силу Вселенной, ведущую ее от первозданного хаоса к высшему порядку, к Абсолюту, не только мыслимому, но и, возможно, достигаемому на восхождении по бесконечной лестнице вверх. С этим знанием следует и стоит жить.
Дмитрий Невелев
Москва похожа на мишень,
ужа, сужающего кольца.
Брожу нелепый, как женьшень,
вдоль патриаршего болотца.
Я – корень жизни и добра.
Я – плод гармонии и света.
Я – росчерк легкого пера,
избранник вечного сюжета.
Я по Садовым, по Тверским
ношу свое спасенье людям,
как шестикрылый серафим —
ободран, пьян и ликом чуден.
Я, как раздавленный комар,
на лобовом стекле таксиста
мелькаю в бликах встречных фар.
Аста ла виста.
Между Питером и Москвой
я покачивал головой,
околачивал языком
и проглатывал кадыком
ржавых станций ржаную пыль,
бесполезных полей ковыль,
безучастных домов глаза
и прохожих, идущих за
то ли водкой, а то ли хлебом
по инерции между небом
и работой, в которой смысла
меньше, чем заключают числа
дней прожитых на белом свете,
разве что народились дети,
чтобы в очереди за хлебом,
затеряться под тем же небом.
Грустно жить ничего не знача,
не создав, не найдя, но плача
по несбывшимся, по далеким
поездам, пролетевшим в Питер.
Жизнь – спектакль,
в котором зритель
не участвует, зная цену
на билеты в любую сцену;
за ответы на все вопросы,
за несбывшиеся прогнозы.
Между Питером и Москвой
я покачиваю головой.
Я как в кресле сижу качалке,
как болванчик на пресс-папье,
как пушинка на скорлупе.
Ознакомительная версия.