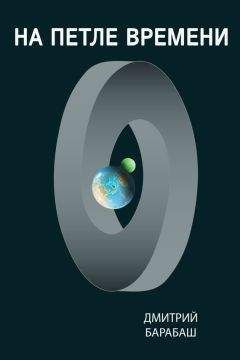Ознакомительная версия.
Рассказчик, от лица которого ведется повествование, совершенно неожиданно и для себя, и для читателя в ходе мистической инициации просыпается, получает опыт осмысленной жизни. Его проводником в новый мир, паче всякого чаяния, становится главный герой произведения. Так находит объяснение прозвище «черный ангел», которым в первых строках поэмы его награждает автор.
Инициация (а это трудно назвать иначе) повествователя происходит без какой-либо подготовки, предуведомлений, как-то буднично. Речь, судя по тексту, идет именно о гностической традиции и для автора, очевидно трезвомыслящего и далекого от эзотерики, этот опыт остается чем-то необъясненным, до конца не переработанным, неосвоенным.
Впрочем, это обыденное недоумение вновь обращенного: что делать с открывшимся знанием, будто пришедшим из ниоткуда, но тем не менее переживаемым достовернее, убедительнее и предметнее, чем собственное существование? Нам новый опыт автора и рассказчика (в поэме они часто сливаются) именно этим и интересен – немного наивной (а другой и быть не может) попыткой описать словами неизъяснимое.
Понимание (это вернее, чем слово «знание») описывается автором так:
Не вдаваясь в хитрые детали,
я скажу лишь, что за пять минут
я узнал так много, что едва ли
сто веков в свои кресты вожмут…
Не в земной и не в телесной власти
рассказать о той бескрайней силе,
но пытаться буду бесконечно
хоть в золе, хоть в слякотной могиле.
Здесь рассказчик только начинает понимать, что и он сам является проводником сокровенного знания, что оно уже растет в нем и ищет выхода, поскольку внутреннее стремление к всеохватывающей и всеосознающей жизни и есть частица того внутреннего напряжения, витальности, которая составляет движущую силу Вселенной, ведущую ее от первозданного хаоса к высшему порядку, к Абсолюту, не только мыслимому, но и, возможно, достигаемому на восхождении по бесконечной лестнице вверх. С этим знанием следует и стоит жить.
Дмитрий Невелев
Москва похожа на мишень,
ужа, сужающего кольца.
Брожу нелепый, как женьшень,
вдоль патриаршего болотца.
Я – корень жизни и добра.
Я – плод гармонии и света.
Я – росчерк легкого пера,
избранник вечного сюжета.
Я по Садовым, по Тверским
ношу свое спасенье людям,
как шестикрылый серафим —
ободран, пьян и ликом чуден.
Я, как раздавленный комар,
на лобовом стекле таксиста
мелькаю в бликах встречных фар.
Аста ла виста.
Между Питером и Москвой
я покачивал головой,
околачивал языком
и проглатывал кадыком
ржавых станций ржаную пыль,
бесполезных полей ковыль,
безучастных домов глаза
и прохожих, идущих за
то ли водкой, а то ли хлебом
по инерции между небом
и работой, в которой смысла
меньше, чем заключают числа
дней прожитых на белом свете,
разве что народились дети,
чтобы в очереди за хлебом,
затеряться под тем же небом.
Грустно жить ничего не знача,
не создав, не найдя, но плача
по несбывшимся, по далеким
поездам, пролетевшим в Питер.
Жизнь – спектакль,
в котором зритель
не участвует, зная цену
на билеты в любую сцену;
за ответы на все вопросы,
за несбывшиеся прогнозы.
Между Питером и Москвой
я покачиваю головой.
Я как в кресле сижу качалке,
как болванчик на пресс-папье,
как пушинка на скорлупе.
Он видел мир потешным, как игру,
чертил границы, раздвигая страны,
и прививал гусиному перу
вкус русской речи и татарской брани.
Он сочинял уставы, строил мир
по правилам своей задорной воли,
из лени, вшей, лаптей и пряных дыр
рождая Русь, в ее великом слове.
Он первый плотник, первый генерал.
Он первый рекрут, первый из тиранов.
Он сам себя Россией муштровал
и строил в камне город ураганов.
Ни уркаганов, ни чумных воров,
Ни лапотников, стибривших калоши.
Как ни крути, гроза для дураков —
Был Петр Первый все-таки хороший.
Стержень жал.
Авторучки ломал
одну за другой,
перемазался пастой,
махая бейсбольной битой,
чем-то рассерженный,
поругавшись с чужой женой,
не сермяжною правдой,
а хваткой железной,
Сэлинджер
полз, как тень от елки
ползет под кремлевской стеной,
дрожью ржи к Селигеру —
Сырдарьей по Онежской
стерляджи.
Мысли уходят, как поезда с Казанского вокзала,
и катятся из Москвы неведомо, блядь, куда.
Главное, что из Москвы, которая откромсала
от жизни моей кусок, размазала и слизала.
Буфетный томатный сок – из рельсового металла.
Мысли уходят вглубь
серых трущоб и просек,
мимо московских труб
и подзаборных мосек.
Волга, Урал, Сибирь
крутят мои колеса.
Как же прекрасна ширь,
сколько в ней купороса.
Петербург Пушкина,
Петербург Гоголя,
Петербург Достоевского,
Петербург Мандельштама —
что-то есть общее,
что-то есть большее,
Петербург словно оконная рама
в крепостной стене.
В нём жизнь течёт по каналам и рекам
иначе, чем жизнь протекает во вне.
Петербург – это дно колодца,
из которого видно солнце
в самом пасмурном дне.
Прямота его линий, касаясь рта
выправляет улыбки.
Если здесь выживают улитки —
то это церковные купола.
Петербург – это каменная плита,
это балтийского моря
опресневелая, чёрная вода.
Из ниоткуда и в никуда
текут по квадрату его года,
то к сенату, то к эрмитажу,
то к летнему саду.
Петербург Грибоедова:
– Кого везёте, откедова?
Всадника медного
не страшны копыта, страшна рука.
Не протекает между
гранитных границ река,
а бьётся, качая солнце
или луну, вода.
Петербург – это времяхранилище,
это той воды хранилище,
в которую снова можно войти
всегда.
Я – петербургская пыль.
По-другому и мыслить нельзя
между дворцовых стен.
Я – петроградский туман.
Я – чёрные хлопья дыма,
идущие словно снег,
ложащиеся на снег
с Онеги, с великих нег,
обузданных пятернёй
завязанных в узел рек
и мачтовою сосной
продетый в небесный парус,
чтоб землю вращать по кругу
за пылью
пылинкой
Питер
Солнце в сметане.
Сияньем востока – на Снежеть.
В русском стакане,
граненом петровской прямой,
кружится медленно мелкая снежная нежить,
волны седые играют когтистой кормой.
Топи засохнут когда-нибудь, выцветет хвоя,
желтым песком захлебнется глазастая Русь.
В пестром кафтане восточносибирского кроя,
с уткой пекинской под ручку какой-нибудь гусь
выйдет на дюну вальяжно и, щурясь, заметит:
– Где тут те реки, леса те, поля те, теля?
Жизнь продолжается.
Люди как малые дети
на карусели
косели, русели, смуглели,
как на планете,
названье которой Земля.
Что ты?
Кто ты?
Где ты?
Куда?
1.
Я хочу быть тем, что появилось в мире, где ничего нет.
2.
Я хочу быть тем, чем отличается этот мир от мира, в котором ничего нет.
3.
Я хочу быть всем, чем отличается этот мир от мира, в котором ничего нет.
4.
Я хочу быть тем, что не может не быть, потому что, как только оно перестанет быть, воцарится мир, в котором ничего нет.
5.
Но не может быть мира, в котором ничего нет. Поскольку я могу его себе представить, а он не может себе позволить представить меня.
6.
Сколько таких миров, отличающихся от мира, в котором ничего нет?
7.
Сколько таких миров являющихся всем чего нет в мире, в котором ничего нет?
8.
Один.
9.
Но в этом одном мире – собрание всех отличий от мира, в котором ничего нет.
10.
Являюсь ли я этим миром? Вопрос, на который постоянно ищу ответ.
11.
Или я одна из вариаций в собрании отличий этого мира от мира, в котором ничего нет?
12.
Что ты?
Кто ты?
Где ты?
Куда?
Москва – Монино 2014
Ознакомительная версия.