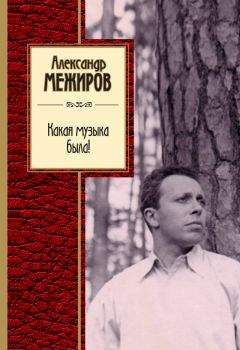«Потому что – все судьба да случай…»
Потому что – все судьба да случай,
Или, может быть, не потому, —
Вечно засыпающий, могучий,
Брат по безрассудству и уму,
Входит, чтобы доказать на деле,
Что готов безропотно опять
Желчному, седому пустомеле
Чутко и внимательно внимать,
И замрет, как будто онемеет,
Извиняя старческую прыть,
Он последний, кто еще умеет
Слушать, а не только говорить.
Вечно засыпающий, поскольку
Съемка дни и ночи напролет,
Не давая завалиться в койку,
С дублями несчетными идет.
Иерархи, в ранге и без ранга, —
Это же действительно кино, —
Это же подлянка – бить подранка, —
Но Москва с носка – ей все равно.
И всегда в его уклонно-смелом
Взгляде голубом одно и то ж:
Мы не делом заняты, не делом, —
Я-то что ж, а ты – не доживешь.
Ну, конечно, можно снять и сняться.
И досуетиться на миру.
Только нам другие игры снятся, —
Мы играем не в свою игру.
Время тает, время улетает,
Ну, а съемка все идет, идет, —
И опять двух дублей не хватает,
Чтоб сыграть свой выход под расчет.
Затейливой резьбы
беззвучные глаголы,
Зовущие назад
к покою и добру, —
Потомственный браслет,
старинный и тяжелый,
Зеленый скарабей
ползет по серебру.
Лей слезы, лей…
Но ото всех на свете
Обид и бед земных
и ото всех скорбей —
Зеленый скарабей
в потомственном браслете,
Зеленый скарабей,
зеленый скарабей.
Анна, друг мой, маленькое чудо,
У любви так мало слов.
Хорошо, что ты еще покуда
И шести не прожила годов.
Мы идем с тобою мимо, мимо
Ужасов земли, всегда вдвоем.
И тебе приятно быть любимой
Старым стариком.
Ты – туда, а я уже оттуда, —
И другой дороги нет.
Ты еще не прожила покуда
Предвоенных лет.
Анна, друг мой, на плечах усталых,
На моих плечах,
На аэродромах и вокзалах
И в очередях
Я несу тебя, не опуская,
Через предстоящую войну,
Постоянно в сердце ощущая
Счастье и вину.
«Там над коротенькой травой…»
Там над коротенькой травой,
Там в палисадниках старинных,
Там розы при минусовой
Температуре на куртинах.
С материка на материк,
Ирландский город Лимерик —
Отель последнего транзита.
В кабину лифта взгляд проник
На миг, и снова дверь закрыта, —
И стал сопровождать всеместно
Меня повсюду и подряд
Тот совершенно неизвестно
Кому принадлежащий взгляд.
На долю малую минуты
Открылась дверь, слегка звеня,
И я увидел этот лютый
Взгляд, ненавидящий меня.
В пустой кабине лифта, в сонном
Отеле снег стекал с пальто.
Дверь на мгновенье с легкий звоном
Открылась. Не вошел никто.
«Умру – придут и разберут…»
Умру – придут и разберут
Бильярдный этот стол,
В который вложен весь мой труд,
Который был тяжел.
В нем все мое заключено,
Весь ад моей тоски —
Шесть луз, резина и сукно,
Три аспидных доски.
На нем играли мастера,
Митасов и Ашот.
Эмиль закручивал шара,
Который не идет.
Был этот стол и плох и мал,
Название одно.
Но дух Березина слетал
На старое сукно.
«В Бутырках, в камере, на сорок…»
В Бутырках, в камере, на сорок,
На сорок пять, на пятьдесят
Подследственных сквозь муть и морок
Костяшки черные стучат.
Стоит жара в казенном доме
И духотою душит, но
Нет ничего на свете, кроме
Сухих костяшек домино.
На первый взгляд игра простая,
На самом деле, нет сложней, —
Колоду черную пластая,
Постичь закономерность в ней.
Занятье плодотворно наше:
Свой личный срок хотя б на треть,
Как можно дальше от параши —
Костяшками перетереть.
«Кто мне она? Не друг и не жена…»
Кто мне она? Не друг и не жена.
Так, на душе ничтожная царапина.
А вот – нужна, а между тем – важна,
Как партия трубы в поэме Скрябина.
По острову идут на материк
Сырые облака без перерыва.
Два зонтика имперских на троих,
Британия бедна и бережлива.
В блаженном смоге, в лондонском дыму,
В дыму-тумане голова гудела.
Фонтаны и дожди. И никому,
И никому ни до кого нет дела.
Эпоха… Спех… И все же, где забыт
Был третий зонтик? Вспомнить бы неплохо…
Упрется в площадь Пикадилли-стрит,
А там фонтан сухой и рядом Сохо.
Дождь не переставая льет и льет
Над Лондоном, над черными мостами,
И только бродят ночи напролет
Три человека под двумя зонтами.
Как благородна седина
В твоей прическе безыскусной,
И все-таки меня она
На лад настраивает грустный.
Откуда этот грустный лад?
Оттуда все же, думать надо,
Что я премного виноват
Перед тобой, моя отрада.
В дремотной темноте ночной
Мне слабо видится сквозь что-то,
Как ты склонилась надо мной,
Обуреваема заботой.
Как охраняешь мой покой,
Мой отдых над отверстой бездной.
Бог наградил меня тобой,
Как говорится, безвозмездно.
За мой земной неправый путь,
Судья Всевышний надо мною
Отсрочил Страшный суд чуть-чуть
Во имя твоего покоя.
«Затем, чтоб не мешать погибельной работе…»
Затем, чтоб не мешать погибельной
работе
И утренним часам прерывистого сна,
Дом для гостей стоит почти что
на отлете,
А там, где сам живет, есть комната
одна.
А в ней болельщик мой глаголом
и страстями
Испытывает стиль, до света жжет
свечу,
Приходит посмотреть, как я мечу
третями,
Как своего шара по-своему кручу.
Карибский окоем зелено-серо-сизый,
Береговой песок. Следы еще свежи.
Сияющим плющом охвачены карнизы,
И тысячами книг забиты стеллажи.
Живем, пока живем. А там, глядишь,
стареем.
Но продолжаем жить. И все чего-то
ждем.
И вот остался я вдвоем
с Хемингуэем,
С «Иметь и не иметь» и с «Кошкой
под дождем».
«Воскресное воспоминанье…»
Воскресное воспоминанье
Об утре в Кадашевской бане…
Замоскворецкая зима,
Столица
На исходе нэпа
Разбогатела задарма,
Но роскошь выглядит нелепо.
Отец,
Уже немолодой,
Как Иудея, волосатый,
Впрок запасается водой,
Кидает кипяток в ушаты.
Прохлада разноцветных плит,
И запах кваса и березы
В парной
Под сводами стоит
Еще хмельной,
Уже тверезый.
В поту обильном изразцы,
И на полка́х блаженной пытки —
Замоскворецкие купцы,
Зажившиеся недобитки.
И отрок
Впитывает впрок,
Сквозь благодарственные стоны,
Замоскворецкий говорок,
Еще водой не разведенный.
«Я замечаю в ней следы ума…»
Я замечаю в ней следы ума,
Жестокости и жесткости, и жалость,
И жалость, о которой и сама
Еще не знает или знает малость.
Я замечаю в ней черты отца
И собственные с ними вперемешку,
И, замечая, не стыжусь лица,
Скрывающего горькую усмешку.
Был снегопад восемь дней,
а потом и мороз наморозил.
Не разметешь, не протопчешь,
до соседней избы
не дойдешь.
Здесь не поможет ничем
не то что лопата —
бульдозер.
Весь Первояну-поселок
заставлен сугробами сплошь.
Разум и нищий инстинкт
пребывают извечно бок о бок,
И неизвестно чему
эта бездомная, слабая,
тощая белая сука верна.
Ради того, чтобы жить,
от избы и к избе
в небывалых сугробах,
В непроходимых снегах
протоптала
тропинку
она.