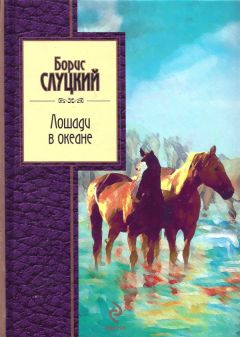Перетасовав свою жидкую колоду, они решили привлечь к этому делу Леонида Мартынова. Кто-то, видимо, вспомнил, что даже у настоящих поэтов «есть такой обычай — в круг сойдясь, оплевывать друг друга». Вон даже и у Блока сказано, что и в его время, когда поэты собирались вместе, «каждый встречал другого надменной улыбкой»… Может быть, кто-нибудь из коллег даже намекнул, что Леонид Николаевич относится к Борису Леонидовичу, как нынче принято говорить, неоднозначно, полагая (в душе) себя, а не его первым поэтом России. Хорошо бы, решили они, воспользоваться этими его настроениями…
Но как?
Поговорить с этим отшельником напрямую? Что называется, без обиняков? Чего доброго, еще пошлет парламентеров куда подальше, и вся затея тут же и лопнет.
И тут они вспомнили про Слуцкого. Всем было известно, что Слуцкий с Мартыновым в добрых отношениях и даже, говорят, имеет на него некоторое влияние. А Слуцкий как-никак член партии. И если ему поручить это тонкое дело…
Сказано — сделано.
Позвали они его на свою тайную вечерю (как сказано у Галича, «тут его цап-царап — и на партком»), и, подчиняясь партийной дисциплине, он согласился взять на себя эту тонкую дипломатическую миссию. И действительно, уговорил Леонида Николаевича принять участие в той постыдной карательной акции.
Но Леонид Николаевич — натура нервная (поэт все-таки) — в последний момент взбрыкнул. Что же это, говорит, меня вы на это дело подбиваете, а сами — в сторону?
И тут уж Борису не оставалось ничего другого, как воздействовать на беспартийного собрата личным примером («Коммунисты, вперед!»).
О его выступлении тогда ходило много слухов. Говорили, что из всех речей ораторов, участвовавших в травле, его речь была самой туманной и, как оценило это высокое партийное начальство, даже неоправданно мягкой.
Теперь все это перестало быть тайной, стенограмма того шабаша давно опубликована, и о том, что там происходило, мы можем судить уже не по слухам и рассказам очевидцев, а по точным документальным данным. Приведу из этой стенограммы лишь один небольшой отрывок.
Собрание подходит к концу. Зачитывается (разумеется, под аплодисменты) проект резолюции. Казалось бы, дело за малым: принять эту резолюцию, как водится, единогласно, и все тут.
Но вот тут-то как раз и началось самое чудовищное:
«ГОЛОС С МЕСТА. Мне кажется, что в резолюции слово „космополит“ надо заменить словом „предатель“…
ГОЛОСА. Правильно…
Р. АЗАРХ. В резолюции нужно сказать: „Творческое собрание писателей просит Советское правительство лишить Пастернака советского гражданства“.
С. С. СМИРНОВ. Я думаю, здесь ясно выражено наше отношение, и дело Советского правительства принять окончательное решение…
ГОЛОС С МЕСТА. Почему Советское правительство должно решать само, без нас? Мы должны просить Советское правительство. И надо так и записать: „Просить Советское правительство…“
С. С. СМИРНОВ. Голосую: кто за то, чтобы вставите в резолюцию эту фразу?.. Кто против? Поправка принимается. Есть ли еще поправки?
ГОЛОС С МЕСТА. В резолюции есть такое место, что Пастернак давно оторвался от нашей действительности и народа. Фраза эта неправильна, так как он не был никогда связан с народом и действительностью.
B. ИНБЕР. Эстет и декадент — это чисто литературные определения. Это не заключает в себе будущего предателя. Это слабо сказано.
C. С. СМИРНОВ. По-моему, это сказано очень определенно…»
Как видно из этой стенограммы, председательствующему С. С. Смирнову, который старался не выходить за рамки партийного задания, пришлось даже слегка отбиваться от напора энтузиастов, жаждущих еще большей крови.
Но речь Слуцкого отличалась не только от истерических визгов всех этих особенно злобных шакалов.
Он не присоединился, как это сделал С. С. Смирнов, к председателю КГБ Семичастному, который сказал о Пастернаке: «Свинья не сделает того, что он сделал. Он нагадил там, где ел». В отличие от В. Перцова, он не утверждал, что Пастернак «не только вымышленная, преувеличенная в художественном отношении фигура, но это и подлая фигура». В отличие от К. Зелинского, не уверял, что ими Пастернака — синоним войны. И не кричал истерически: «Иди, получай там свои тридцать сребреников! Ты нам здесь сегодня не нужен!»
Факт, однако, остается фактом: он был одним из них, принял участие в карательной акции, в этой постыдной травле. И до конца дней не мог себе этого простить. Думаю даже, что не слишком погрешу против истины, если скажу, что «этот случай» сильно способствовал тяжкой душевной болезни Бориса и сильно приблизил его смерть.
А все потому, что, считая себя коммунистом, то есть человеком идеи, на самом деле был — членом партии, то есть членом банды.
* * *
Он давно уже знал, что той партии, в какую его принимали, больше нет. Может быть, даже понимал, что такой, какой он ее себе представлял, она и тогда, в 41-м, уже не была:
Я строю на песке, а тот песок
Еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой, для всех скалой остался,
А для меня распался и потек.
Я мог бы руки долу опустить,
Я мог бы отдых пальцам дать корявым.
Я мог бы возмутиться и спросить,
За что меня и по какому праву…
Последние две строки, конечно, о политике государственного антисемитизма, все прелести которой Борис уже почувствовал к тому времени на собственной шкуре. Но это был не единственный и даже не главный стимул, побудивший его написать такое стихотворение. Главным было то, что фундамент всего здания, которое он возводил, не щадя жизни, как выяснилось, стоял на «плывущем под ногами, на уходящем из-под ног песке». Говоря проще, сама идея, в которую он так беззаветно верил, оказалась фикцией.
Это было написано в 1957 году.
Вот как давно обозначилась трещина между подлинными его душевными склонностями и добровольно взятой им на себя ролью «вождя», «комиссара». Это была мина замедленного действия, которая — рано или поздно — не могла не взорваться. Так оно в конце концов и случилось:
Я в ваших хороводах отплясал.
Я в ваших водоемах откупался.
Наверно, полужизнью откупался
за то, что в это дело я влезал.
Я был в игре. Теперь я вне игры.
Теперь я ваши разгадал кроссворды.
Я требую раскола и развода
и права удирать в тартарары.
Все ценности прошлого перечеркнуты. Осталась только вот эта, последняя ценность:
Уценяйтесь, переоценяйтесь,
реформируйтесь, деформируйтесь,
пародируйте, деградируйте,
но без меня, без меня, без меня.
Вот он — итог. Конечный вывод, к которому пришел человек, гордившийся тем, что ему выпало быть не песчинкой, а творцом истории — разбивать казематы, кормить голодных, раздавать крестьянам графские земли…
Такая вот печальная диалектика.
* * *
Один молодой поэт попросил Б. Л. Пастернака прочесть и оценить его стихи. На эту скромную и, казалось бы, такую естественную просьбу Б. Л. с некоторым — не совсем даже понятным — раздражением ответил, что тот обратился к нему не по адресу:
«Когда мои читатели и почитатели обращаются ко мне с просьбами, подобными Вашей, я с сожалением или раздражением устанавливаю, что, значит, они в недостаточной степени читатели и почитатели мои, потому что не поняли во мне главного: что я „стихов вообще“ не люблю, в поэзии, как ее принято понимать, не разбираюсь, что я не судья, не ценитель в этой области…
Если Вы разделите людей на партийных и беспартийных, мужчин и женщин, мерзавцев и порядочных, это все еще не такие различные категории, не такие противоположности, как отношение между мною и противоположным мне миром, в котором любят, ценят, понимают, смакуют и обсуждают стихи, пишут их и читают. Это мир мне полярный и враждебный…»
(Борис Пастернак. Собр. соч. в 5 т. Т. 5. С. 542–543.)Реакция, казалось бы, весьма странная, даже дикая. Великий поэт заявляет, что стихов не любит, в поэзии не разбирается и мир, в котором «любят, ценят, понимают, смакуют и обсуждают стихи, пишут их и читают» ему не просто чужд, но даже враждебен.
Некоторый свет на эту загадку проливает мимоходом брошенная полуфраза, смысл которой в том, что не разбирается и не желает разбираться он не в поэзии как таковой, а в поэзии, как ее принято понимать. И враждебен ему мир, в котором не просто «любят, ценят, понимают и обсуждают стихи», но при этом еще их смакуют. Это последнее словечко тут многое объясняет.
Жало этой Пастернаковой отповеди и яд его раздражения нацелены в тех, кто полагает, что нравящиеся им и ценимые ими стихи сотканы из слов, рифм, аллитераций, ритмических и интонационных «ходов» и прочих компонентов так называемого «поэтического мастерства». В действительности, однако, дело обстоит совершенно иначе. И далее в том же письме молодому поэту он объясняет, как это происходит на самом деле: