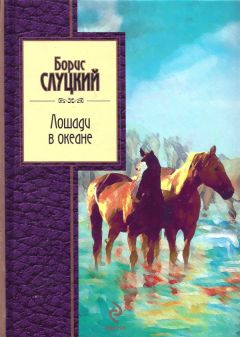Духовная драма Слуцкого завершилась крахом. Но именно этот крах стал главным источником своеобразия и силы его поэзии.
Если бы он не обольщался Сталиным, а потом не преодолел этого своего обольщения, он никогда не написал бы таких стихов, как «Бог» и «Хозяин».
Верность «строительной программе», которой он подчинил свою жизнь, была несовместима с музыкой его души. Но именно эта несовместимость создала то духовное напряжение, из которого родились самые пронзительные его стихи.
В конечном счете именно она, эта несовместимость, эта его раздвоенность, его душевный разлад определили место Бориса Слуцкого в отечественной поэзии — место самого крупного русского поэта второй половины XX века.
Бенедикт Сарнов
«А в общем, ничего, кроме войны…»
А в общем, ничего, кроме войны!
Ну хоть бы хны. Нет, ничего. Нисколько.
Она скрипит, как инвалиду — койка.
Скрипит всю ночь вдоль всей ее длины.
А до войны? Да, юность, пустяки.
А после? После — перезрелость, старость.
И в памяти, и в сердце не осталось,
кроме войны, ни звука, ни строки.
Война? Она запомнилась по дням.
Все прочее? Оно — по пятилеткам.
Война ударом сабли метким
навеки развалила сердце нам.
Все прочее же? Было ли оно?
И я гляжу неузнающим взглядом.
Мое вчера прошло уже давно.
Моя война еще стреляет рядом.
Конечно, это срыв, и перебор,
и крик,
и остается между нами.
Но все-таки стреляет до сих пор
война
и попадает временами.
«В сорока строках хочу я выразить…»
В сорока строках хочу я выразить
ложную эстетику мою.
…В Пятигорске,
где-то на краю,
в комнате без выступов и вырезов
с точной вывеской — «Психбольной» —
за плюгавым пологом из ситчика
пятый год
сержант
из динамитчиков
бредит тишиной.
Интересно, кем он был перед войной!
Я был мальчишкою с душою вещей,
каких в любой поэзии не счесть.
Сейчас я знаю некоторые вещи
из тех вещей, что в этом мире есть!
Из всех вещей я знаю вещество
войны.
И больше ничего.
Вниз головой по гулкой мостовой
вслед за собой война меня влачила
и выучила лишь себе самой,
а больше ничему не научила.
Итак,
в моих ушах расчленена
лишь надвое:
война и тишина —
на эти две —
вся гамма мировая.
Полутонов я не воспринимаю.
Мир многозвучный!
Встань же предо мной
всей музыкой своей неимоверной!
Заведомо неполно и неверно
пою тебя войной и тишиной.
«Последнею усталостью устав…»
Последнею усталостью устав,
предсмертным равнодушием охвачен,
большие руки вяло распластав,
лежит солдат.
Он мог лежать иначе,
он мог лежать с женой в своей постели,
он мог не рвать намокший кровью мох,
он мог…
Да мог ли? Будто? Неужели?
Нет, он не мог.
Ему военкомат повестки слал.
С ним рядом офицеры шли, шагали.
В тылу стучал машинкой трибунал.
А если б не стучал, он мог?
Едва ли.
Он без повесток, он бы сам пошел.
И не за страх — за совесть и за почесть.
Лежит солдат — в крови лежит, в большой,
а жаловаться ни на что не хочет.
Утро брезжит, а дождик брызжет.
Я лежу на вокзале в углу.
Я еще молодой и рыжий,
мне легко на твердом полу.
Еще волосы не поседели
и товарищей милых ряды
не стеснились, не поредели
от победы и от беды.
Засыпаю, а это значит:
засыпает меня, как песок,
сон, который вчера был начат,
но остался большой кусок.
Вот я вижу себя в каптерке,
а над ней снаряды снуют.
Гимнастерки. Да, гимнастерки!
Выдают нам. Да, выдают!
Девятнадцатый год рожденья —
двадцать два в сорок первом году —
принимаю без возраженья,
как планиду и как звезду.
Выхожу двадцатидвухлетний
и совсем некрасивый собой[3],
в свой решительный, и последний[4],
и предсказанный песней бой.
Потому что так пелось с детства.
Потому что некуда деться
и по многим другим «потому».
Я когда-нибудь их пойму.
«Хуже всех на фронте пехоте…»
— Хуже всех на фронте пехоте!
— Нет! Страшнее саперам.
В обороне или в походе
хуже всех им, без спора!
— Верно, правильно! Трудно и склизко
подползать к осторожной траншее.
Но страшней быть девчонкой —
связисткой,
вот кому на войне
всех страшнее.
Я встречал их немало, девчонок!
Я им волосы гладил,
у хозяйственников ожесточенных
добывал им отрезы на платье.
Не за это, а так
отчего-то,
не за это,
а просто
случайно
мне девчонки шептали без счета
свои тихие, бедные тайны.
Я слыхал их немало, секретов,
что слезами политы,
мне шептали про то и про это,
про большие обиды!
Я не выдам вас, будьте спокойны.
Никогда. В самом деле,
слишком тяжко даются вам войны.
Лучше б дома сидели.
Все спали в доме отдыха,
весь день — с утра до вечера.
По той простой причине,
что делать было нечего.
За всю войну впервые,
за детство в первый раз
им делать было нечего —
спи — хоть день, хоть час!
Все спали в доме отдыха
ремесленных училищ.
Все спали[5] и не встали бы,
хоть что бы ни случилось.
Они войну закончили
победой над врагом.
Мальчишки из училища,
фуражки с козырьком.
Мальчишки в форме ношеной,
шестого срока минимум.
Они из всей истории
учили подвиг Минина
и отдали отечеству
не злато-серебро[6] —
единственное детство,
все свое добро.
На длинных подоконниках
цветут цветы бумажные.
По выбеленным комнатам
проходят сестры важные.
Идут неслышной поступью.
Торжественно молчат:
смежив глаза суровые,
здесь,
рядом,
дети спят.
«Ордена теперь никто не носит…»
Ордена теперь никто не носит.
Планки носят только дураки.
Носят так, как будто что-то просят.
Будто бы стыдясь за пиджаки.
Потому что никакая льгота
этим тихим людям не дана,
хоть война была четыре года,
длинная была война.
Впрочем, это было так давно,
что как будто не было и выдумано.
Может быть, увидено в кино,
может быть, в романе вычитано.
Нет, у нас жестокая свобода
помнить все страдания. До дна.
А война — была.
Четыре года.
Долгая была война.
Давайте после драки
помашем кулаками:
не только пиво-раки[7]
мы ели[8] и лакали,
нет, назначались сроки,
готовились бои,
готовились в пророки
товарищи мои.
Сейчас все это странно.
Звучит все это глупо.
В пяти соседних странах
зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов —
фанерный монумент —
венчанье тех талантов,
развязка тех легенд.
За наши судьбы (личные),
за нашу славу (общую),
за ту строку отличную,
что мы искали ощупью,
за то, что не испортили
ни песню мы, ни стих,
давайте выпьем, мертвые,
во здравие живых![9]
В рабочем городке Солнечногорске,
в полсотне километров от Москвы,
я подобрал песка сырого горстку —
руками выбрал из густой травы.
А той травой могила поросла,
а та могила называлась братской,
их много на шоссе на Ленинградском,
и на других шоссе их без числа.
Среди фамилий, врезанных в гранит,
я отыскал свое простое имя.
Все буквы — семь, что памятник хранит,
предстали пред глазами пред моими.
Все — буквы — семь — сходилися у нас,
и в метриках и в паспорте сходились,
и если б я лежал в земле сейчас,
все те же семь бы надо мной светились.
Но пули пели мимо — не попали,
но бомбы облетели стороной,
но без вести товарищи пропали,
а я вернулся. Целый и живой.
Я в жизни ни о чем таком не думал,
я перед всеми прав, не виноват.
Но вот шоссе, и под плитой угрюмой
лежит с моей фамилией солдат.