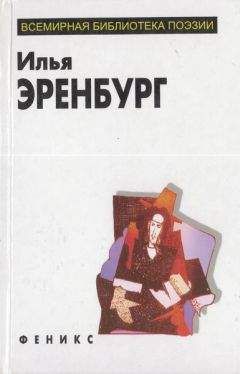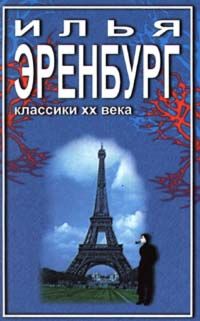Между январем и мартом 1920
103. «Мои стихи не исповедь певца…»
Мои стихи не исповедь певца,
Не повесть о любви высокого поэта —
Так звучат тяжелые сердца,
Тронутые ветром.
Я не резвился с музами в апреля навечерия,
Не срывал Геликона доцветающих роз —
Лиру разбил о камень севера,
Косматым руном оброс.
На развалинах мира молчи,
Пушкина полдневная цевница!
Варвар смеется, забытый младенец кричит,
Бьет крылами вспугнутая птица.
Не о себе говорю — о многих и многих,
Ибо нем человек и громка гроза.
Одни приходят — другие уходят,
Потупляют, встретившись, глаза.
Все одной непогодой покрыты,
И протяжная поет труба,
Медная, оплакивает павшего владыку
И приветствует раба.
Имя мое забудут, стихи прочитав, усмехнутся:
Умирающая мать, грустя,
Грусть свою тая, в последний раз баюкала
Новое безлюбое дитя.
Март 1920
104. «Блузник, на лбу твоем пот…»
Блузник, на лбу твоем пот,
Руки черны от работы,
Пожалей же нежалевшего, ибо горек плод,
Не окропленный потом.
Тяжелее рубищ — багряница,
И владыке тесен дольний мир.
Страшно иерею в вековой темнице
Сторожить скудеющий потир.
Золото ласкают легкими перстами —
Горше нет такой любви,
Не живут, но только оживляют камень
Теплотой скудеющей крови.
Одному был дан, чтоб править, скипетр,
А другому — молот, чтоб державу раздробить.
Не кляни, но мертвых и забытых,
Путь свой завершивших, погреби.
Полюби не лепоту, но время
И, дары земли легко даря,
Претвори властителя былое бремя
В утреннюю песню косаря.
Март 1920
105. ОТРЫВОК ИЗ НЕНАПЕЧАТАННОЙ «ОДЫ»
Секите сердца златорудые!
Кровь весела, и темный легок оброк.
Други, трубите в трубы,
Славьте новый Восток!
Умри, певец, на груди зари рыжекудрой,
Душу вдунув в огненный рог!
Запевай! Отвечай! Выходи на вспененный борт!
Огни зажигай на мачте высокой!
Это не дальний архангельский хор —
Человеческий рык и топот.
Всё, чем мы были иль быть не смогли,
Смыли черные волны.
Смейся громче, дитя земли,
В руне твоем новое солнце!
Пролетают года, и пред ними паду ль
Иль корабль проведу в золотые века?
Глядите — впервые легла на трепещущий руль
Жилистая, черная рука.
Запевала-ветер, начинай!
«Свобода!.. Свобода!..»
1920
106. «Кому предам прозренья этой книги?…»
Кому предам прозренья этой книги?
Мой век среди растущих вод
Земли уж близкой не увидит,
Масличной ветви не поймет.
Ревнивое встает над миром утро.
И эти годы не разноязычий сечь,
Но только труд кровавой повитухи,
Пришедшей, чтоб дитя от матери отсечь.
Да будет так! От этих дней безлюбых
Кидаю я в века певучий мост.
Концом другим он обопрется о винты и кубы
Очеловеченных машин и звезд.
Как полдень золотого века будет светел!
Как небо воссинеет после злой грозы!
И претворятся соки варварской лозы
В прозрачное вино тысячелетий.
И некий человек в тени книгохранилищ
Прочтет мои стихи, как их читали встарь,
Услышит едкий запах седины и пыли,
Заглянет, может быть, в словарь.
Средь мишуры былой и слов убогих,
Средь летописи давних смут
Увидит человека, умирающего на пороге,
С лицом, повернутым к нему.
Январь или февраль 1921
Москва
107. «Скрипки, сливки, книжки, дни, недели…»
Скрипки, сливки, книжки, дни, недели.
Напишу еще стишок — зачем?
Что это — тяжелое похмелье
Или непроветренный Эдем?
У Вердена лимонад в киосках.
Выше — тщательная синева.
Остается, прохладившись просто,
Говорить хорошие слова.
Время креповую сажу счистит —
Ведь ему к тому не привыкать.
Пусть займется остальным статистик,
А поэту должно воспевать.
Да, моя страна не знала меры,
Скарб столетий на костер снесла.
И обугленные нововеры
Не дают уюта иль тепла.
Да, конечно, радиатор лучше!
Что же, Эренбург, попав в Париж,
Это щедрое благополучье
В холеные оды претвори.
Но язык России дик и скорбен,
И не русский станет славить днесь
Победителя, что мчится в «форде»
Привкус смерти трюфелем заесть.
Впрочем, всё это различье вкусов,
И невежливо его просить,
Выпив чай, к тому ж еще вприкуску,
На костре себя слегка спалить.
Июль 1921
108. «Я не трубач — труба. Дуй, Время!..»
Я не трубач — труба. Дуй, Время!
Дано им верить, мне звенеть.
Услышат все, но кто оценит,
Что плакать может даже медь?
Он в серый день припал и дунул,
И я безудержно завыл,
Простой закат назвал кануном
И скуку мукой подменил.
Старались все себя превысить —
О ком звенела медь? О чем?
Так припадали губы тысяч,
Но Время было трубачом.
Не я, рукой сухой и твердой
Перевернув тяжелый лист,
На смотр веков построил орды
Слепых тесальщиков земли.
Я не сказал, но лишь ответил,
Затем что он уста рассек,
Затем что я не властный ветер,
Но только бедный человек.
И кто поймет, что в сплаве медном
Трепещет вкрапленная плоть,
Что прославляю я победы
Меня сумевших побороть?
Июль 1921
109. «Разграбив житницы небес…»
Разграбив житницы небес,
Дитя вселенской суматохи,
Как я могу, засевши в бест,
Сбирать любви златые крохи?
О, парадизов преснота
И буколические встречи!
Припомнив дикие лета,
Чем осолю свой ранний вечер?
Еще, пожалуй, десять лет
(Мне тридцать минуло) готовься —
Придется этот скудный хлеб
Солить слезою стариковства.
Конечно, одуванчик мил
И Беатриче цель поэта,
Но я сивуху долго пил
И нечувствителен к букету.
Я очень, очень виноват,
Что пережил свое безумье, —
Неразорвавшийся снаряд
Еще валяется на клумбе.
Август 1921
110. «Будет день — и станет наше горе…»
Будет день — и станет наше горе
Датами на цоколе историй,
И в обжитом доме не припомнят
О рабах былой каменоломни.
Но останется от жизни давней
След нестертый на остывшем камне,
Не заглохшие без эха рифмы,
Не забытые чужие мифы,
Не скрижали дикого Синая —
Слабая рука, а в ней другая,
Чтобы знали дети легкой неги
О неупомянутой победе
Просто человеческого сердца
Не над человеком, но над смертью.
Так напрасно все ветра пытались
Разлучить хладеющие пальцы.
Быстрый выстрел или всхлипы двери,
Но в потере не было потери.
Мы детьми играли на могиле.
Умирая, мы еще любили.
Стала смерть задумчивой улыбкой
На лице блаженной Суламиты.
Август 1921
111. «Тяжелы несжатые поля…»
Тяжелы несжатые поля,
Золотого века полнокровье.
Чем бы стала ты, моя земля,
Без опустошающей любови?
Да, любовь, и до такой тоски,
Что в зените леденеет сердце,
Вместо глаз кровавые белки
Смотрят в хаотические сферы.
Закипает глухо желчь земли,
Веси заливает бунта лава,
И горит Нерукотворный Лик,
Падает порфировая слава.
О, я тоже пил твое вино!
Ты глаза потупила, весталка,
Проливая в каменную ночь
Первые разрозненные залпы.
Январь 1922
112. «Тело нежное строгает стругом…»
Тело нежное строгает стругом,
И летит отхваченная бровь,
Стружки снега, матерная ругань,
Голубиная густая кровь.
За чужую радость эти кубки.
Разве о своей поведать мог,
На плече, как на голландской трубке,
Выгрызая черное клеймо?
И на Красной площади готовят
Этот теплый корабельный лес, —
Дикий шкипер заболел любовью
К душной полноте ее телес.
С топором такою страстью вспыхнет,
Так прекрасен пурпур серебра,
Что выносят замертво стрельчиху,
Повстречавшую глаза Петра.
Сколько раз в годину новой рубки
Обжигала нас его тоска
И тянулась к трепетной голубке
Жадная, горячая рука.
Бьется в ярусах чужое имя.
Красный бархат ложи, и темно.
Голову любимую он кинет
На обледенелое бревно.
Январь 1922