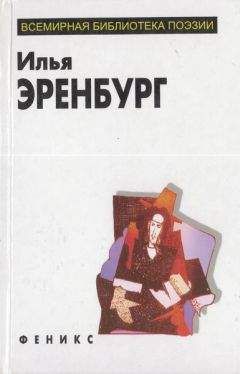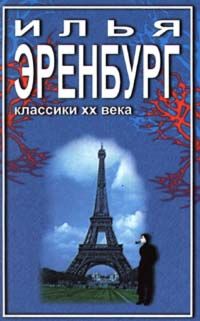Июль или август 1922
121. «Где солнце как желток, белы потемки…»
Где солнце как желток, белы потемки,
Изюм и трехсвятительская мгла,
Где женщины, как розовые семги
Средь бакалеи, кажут мертвый глаз,
Где важен чад великих чаепитий,
Отрыгнутый архимандритом лук
И славы доморощенный ревнитель
Воротит скулы православных слуг,
Где приторна малиновая пасха,
Славянских дев, как сукровица, кровь, —
Чернея, хлынула горячая закваска —
Всей баснословной Африки любовь.
Ему пришлось воспеть удельных хамов,
Ранжир любви и местничество вер,
Средь сплетен, евнухов — смущенный мамонт
Закончил дни, и был он «камергер».
Он пел снега, но голос крови гулок,
И, услыхав повозки скрип простой,
Он выплеснул ночное «Мариула»
И захлебнулся этой долготой.
Я чую теплый бакен, слышу выстрел,
Во мне растет такой же смутный гул,
И плещут в небе дикие мониста —
Щемящие глаза падучих Мариул.
Июль или август 1922
122. «Остановка. Несколько примет…»
Остановка. Несколько примет.
Расписанье некоторых линий.
Так одно из этих легких лет
Будет слишком легким на помине.
Где же сказано — в какой графе,
На каком из верстовых зарубка,
Что такой-то сиживал в кафе
И дымил недодымившей трубкой?
Ты ж не станешь клевера сушить,
Чиркать ногтем по полям романа.
Это — две минуты, и в глуши
Никому не нужный полустанок.
Даже грохот катастроф забудь:
Это — задыханья, и бураны,
И открытый стрелочником путь
Слишком поздно или слишком рано.
Вот мое звериное тепло,
Я почти что от него свободен.
Ты мне руку положи на лоб,
Чтоб услышать, как оно уходит.
Есть в тебе льняная чистота,
И тому, кому не нужно хлеба, —
Три аршина грубого холста
На его последнюю потребу.
Июль или август 1922
123. «Я любил ветер верхних палуб…»
Я любил ветер верхних палуб,
Ремесло пушкаря,
Уличные скандалы
И двадцать пятое октября.
Я любил в кофейнях гулящих,
Дым, спирт, зной.
Меня положат в продолговатый ящик
Дышать прохладной сосной.
Чопорно лягу в жесткой манишке,
Свидетель стольких измен,
Подобно Самуилу, Саулу, мертвым и лишним,
Судить двенадцать колен.
За то, что лоцман, вспомнив пристань,
Рано повернул свое колесо
И все сердца ушедших на приступ
Остыли, как за ночь песок.
Тебя и вас, любимых и любивших,
За то, что вы, полюбив уют,
Осудили вот здесь, под этой манишкой,
Нежность и ревность мою.
Тогда, преисполнены страха,
В глубь земли и в глубины лет
Вы меня опустите, как тяжелый якорь,
Чтоб самим устоять на земле.
Июль или август 1922
124. «Так умирать, чтоб бил озноб огни…»
Так умирать, чтоб бил озноб огни,
Чтоб дымом пахли щеки, чтоб курьерский:
«Ну, ты, угомонись, уймись, нишкни», —
Прошамкал мамкой ветровому сердцу,
Чтоб — без тебя, чтоб вместо рук сжимать
Ремень окна, чтоб не было «останься»,
Чтоб, умирая, о тебе гадать
По сыпи звезд, по лихорадке станций, —
Так умирать, понять, что гам и чай,
Буфетчик, вечный розан на котлете,
Что это — смерть, что на твое «прощай!»
Уж мне никак не суждено ответить.
1923
125. «Не нежен, беженцем на тормоз…»
Не нежен, беженцем на тормоз,
И на рожон, забыв зады,
Вытряхивая ворох формул
О связи глаза и звезды,
О связи губ, тех, что голубят,
Что воркот льют, когда ты люб, —
Тарарабумбий на раструбе
Взбесившихся под утро труб.
Любовь — чтоб это было мясо,
Чтоб легче в гроб, чтоб глох, пока
Не станут вздохи астмой, басом
Матросского грузовика.
Врозь ноги. Пули тороваты.
На улице любой лови —
Он снова тянется, кильватер
Огульной крови и любви!
От жарких наволок, от славы
Вот в эту рань, где красный дом,
Средь форток, штор и мертвых лавок,
Орет, пробитый сквозняком.
Молочниц пар. Мороз. Но гарус,
Но роза — за угол, и вот
Она уж бомба, гомон, ярость
И хор у городских ворот.
На смену, ненависть! До пушек!
Крути фитиль, вой матом, пой!
Как та, врываясь в глушь подушек,
Тяжелой, теплой и слепой.
1923(?)
126. «Не сухостой — живое тело резать…»
Не сухостой — живое тело резать,
Чтоб изошел слезой горячий сруб, —
Так мне ломать проклятое железо
Отлитых для молчальничества губ.
И по ночам отчаянье какое!
Скорей средь корректур и табака
Хлебнуть горячечных паров левкоя,
Запасть в подушечные облака!
Средь скуки штукатура, к стенке серой,
Когда любовь в любом окне горит,
Знать только капли крана, сердца меру
И смерть на самых подступах зари.
Остановись! Не то я вырву вожжи.
Я на земле еще недолюбил.
Из ночи в ночь короткий теплый дождик
Мои ладони бережно крестил.
Чтоб на спину, считая стаи галок,
Чтоб стала бытом даже эта мгла,
Чтоб фиолетовое веко пало
На дикий, рыбий, вылинявший глаз.
1923(?)
127. «Я так любил тебя — до грубых шуток…»
Я так любил тебя — до грубых шуток
И до таких пронзительных немот,
Что даже дождь, стекло и ветки путал,
Не мог найти каких-то нужных нот.
Так только варвар, бросивший на форум
Косматый запах крови и седла,
Богинь оледенивший волчьим взором
Занеженные зябкие тела,
Так только варвар, конь чей, дико пенясь,
Ветрами заальпийскими гоним,
Копытом высекал из сердца пленниц
Источники чистительные нимф,
И после, приминая мех медвежий,
Гортанным храпом плача и шутя,
Так только варвар пестовал и нежил
Диковинное южное дитя.
Так я тебя, без музыки, без лавра,
Грошовую игрушку смастерил,
Нет, не на радость, как усталый варвар,
Ныряя в ночь, большую, без зари.
1924
128. «Нет, не забыть тебя, Мадрид…»
Нет, не забыть тебя, Мадрид,
Твоей крови, твоих обид.
Холодный ветер кружит пыль.
Зачем у девочки костыль?
Зачем на свете фонари?
И кто дотянет до зари?
Зачем живет Карабанчель?
Зачем пустая колыбель?
И сколько будет эта мать
Не понимать и обнимать?
Раскрыта прямо в небо дверь,
И, если хочешь, в небо верь,
А на земле клочок белья,
И кровью смочена земля.
И пушки говорят всю ночь,
Что не уйти и не помочь,
Что зря придумана заря,
Что не придут сюда моря,
Ни корабли, ни поезда,
Ни эта праздная звезда.
1938
Трибун на цоколе безумца не напоит.
Не крикнут ласточки средь каменной листвы.
И вдруг доносится, как смутный гул прибоя,
Дыхание далекой и живой Москвы.
Всем пасынкам земли знаком и вчуже дорог
(Любуются на улиц легкие стежки) —
Он для меня был нежным детством, этот город,
Его Садовые и первые снежки.
Дома кочуют. Выйдешь утром, а Тверская
Свернула за угол. Мостов к прыжку разбег.
На реку корабли высокие спускают,
И, как покойника, сжигают ночью снег.
Иду по улицам, и прошлого не жалко,
Ни сверстников, ни площади не узнаю.
Вот только слушаю всё ту же речь с развалкой
И улыбаюсь старожилу-воробью.
Сердец кипенье: город взрезан, взорван, вскопан,
А судьбы сыплются меж пальцев, как песок.
И, слыша этот шум, покорно ночь Европы
Из рук роняет шерсти золотой моток.
1938