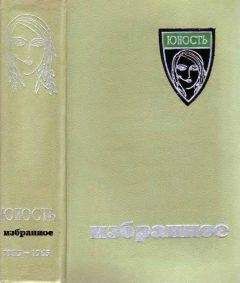Сергей Смирнов
Гаданью в наш серьезный век,
Конечно, мы не верим.
А я вот раз нашел ночлег —
Избушка, словно терем.
Хозяйка,
женщина-душа.
Собой немолодая.
Достала карты не спеша:
— Давайте погадаю!
Даю согласие свое, —
Гадайте, мол, не жалко.
Гляжу с улыбкой на нее:
Война,
а тут гадалка.
И карты говорят о том.
Что
ждет меня дорога.
Большой марьяж,
Заветный дом
И дама-недотрога.
Что я добьюсь,
чего хочу.
Стараньем и трудами,
Что буду жив
и прикачу
К своей бубновой даме.
Уснул военный человек.
А утром:
— До свиданья,
Благодарю вас за ночлег,
За доброе гаданье!..
И я о нем не забывал
Под ливнем,
под обстрелом.
Среди убитых наповал,
В снегу, как саван, белом.
За мной ходило по пятам
Прямое попаданье.
Но я хитрил:
Я падал там
И вспоминал гаданье.
Оно, как тайная броня.
Становится с годами.
Оно ведет,
ведет меня
К моей
Бубновой даме.
И впереди,
в дыму седом,
Та дама-недотрога,
Большой марьяж.
Заветный дом.
Далекая дорога!..
Калининский фронт, 1943 год.
Бывают дни без фейерверка,
когда огромная страна
осенним утром на поверке
все называет имена.
Ей надо собственные силы
ума и духа посчитать.
Открылись двери и могилы,
разъялась тьма, отверзлась гладь.
Притихла рожь, умолкла злоба,
прилежно вытянулась спесь.
И Лермонтов встает из гроба
и отвечает громко: «Здесь».
Он, этот Лермонтов опальный,
сын нашей собственной земли,
чьи строки, как удар кинжальный,
под сердце самое вошли.
Он, этот Лермонтов могучий,
сосредоточась, добр и зол,
как бы светящаяся туча,
по небу русскому прошел.
Пробив привокзальную давку,
Прощальным огнем озарен,
Уже перед самой отправкой
Я сел в комсомольский вагон.
И сразу же, в эту же пору.
Качнувшись и дернув сперва,
В зеленых кружках семафоров
Пошла отдаляться Москва.
Шел поезд надежно и споро.
Его от знакомой земли
В иные края и просторы
Далекие рельсы вели.
Туда уходила дорога.
Где вечно — с утра до утра —
В районе Падунских порогов
Сурово шумит Ангара.
Где на берегах диковатых.
На склонах нетронутых гор
Вас всех ожидают, ребята,
Взрывчатка, кайло и лопата,
Бульдозер, пила и топор.
Там все вы построите сами,
Возьмете весь край в оборот…
Прощаясь с родными местами,
Притих комсомольский народ.
Тот самый народ, современный,
Что вовсе недавно из школ,
Как это ведется, на смену
Отцам или братьям пришел.
И я, начиная дорогу,
Забыв о заботах иных,
Пытливо, взыскательно, строго,
С надеждой и скрытой тревогой
Гляжу на людей молодых.
Как будто в большую разведку,
В мерцанье грядущего дня
К ребятам шестой пятилетки
Ячейка послала меня;
Как будто отважным народом.
Что трудно и весело жил,
Из песен тридцатого года
Я к ним делегирован был.
Мне с ними привычно и просто,
Мне радостно — что тут скрывать! —
В теперешних этих подростках
Тогдашних друзей узнавать.
Не хуже они и не краше.
Такие же, вот они, тут!
И песни любимые наши
С таким же азартом поют.
Не то что различия нету,
Оно не решает как раз;
Ну разве почище одеты
Да разве ученее нас.
Не то чтобы разницы нету.
Но в самом большом мы сродни.
И главные наши приметы
У двух поколений одни.
Ну нет, мы не просто знакомы,
Я вашим товарищем стал,
Посланцы того же райкома,
Который и нас принимал.
Иное за окнами время,
Ко так же отважно живет
Одно комсомольское племя,
Один комсомольский народ.
К дискуссии об Андрее Рублеве
Нет, все не сунешь в схему,
И как бы ни совали,
Рублев,
принявший схиму,
Невером
был едва ли.
Он на колени падал пред
В начале бывшим
Словом,
И мужиков искать не след
В архангелах Рублева.
А спас его — не волопас —
Начал труда носитель,
А просто: Спас,
Спас,
Спас
(По-нашему спаситель).
Пожертвуем еще одним
Безбожником возможным —
Ведь голубь — дух
летал над ним,
Смиренным,
Бестревожным.
Нет, не носил Рублев пиджак
Под иноческим платьем.
(А с господом мы кое-как
И без Рублева
сладим).
Как убивали мою бабку?
Мою бабку убивали так:
Утром к зданию горбанка
Подошел танк.
Сто пятьдесят евреев города.
Легкие
от годовалого голода,
Бледные
от предсмертной тоски
Пришли туда, неся узелки.
Юные немцы и полицаи
Бодро теснили старух, стариков
И повели, котелками бряцая,
За город повели,
далеко.
А бабка, маленькая, словно атом,
Семидесятилетняя бабка моя
Крыла немцев,
Ругала матом,
Кричала немцам о том, где я.
Она кричала: «Мой внук на фронте.
Вы только посмейте,
Только троньте!
Слышите,
наша пальба слышна!»
Бабка плакала и кричала.
Шла. Опять начинала сначала
Кричать.
Из каждого окна
Шумели Ивановны, Андреевны,
Плакали Сидоровны, Петровны:
«Держись, Полина Матвеевна!
Кричи на них! Иди ровно!»
Они шумели: «Ой, що робыть
З отым нимцем, нашим ворогом!»
И немцам
бабку
пришлось убить
Досрочно,
пока еще шли городом.
Пуля взметнула волоса,
Выпала седенькая коса,
И бабка наземь упала.
Так она и пропала.
«Ленина звали „Ильич“ и „Старик“…»
Ленина звали «Ильич» и «Старик» —
Так крестьянина зовет крестьянин.
Так рабочий с рабочим привык,
Ленина не звали «Хозяин».
«Старик» — называли его, пока
Он был еще молод — в знак уваженья.
А «Хозяин» — это словцо батрака,
Тихое от униженья.
Весь наш большой материк
И все другие страны земли
Хороших людей называют «старик»
И лучшего слова найти б не смогли.
«О чем он думает, спортсмен, дыханье затая…»
О чем он думает, спортсмен, дыханье затая.
Идя на запрещенный риск, приняв неравный бой!
«Потом — ругай меня жюри, суди меня судья,
А нынче не судьба со мной, а я шучу с судьбой».
О ком он думает, солдат, в окопе у врага,
И не «ура», а просто «а» рыдая, как пурга,
Россия-а — «а», отчизна — «а» и «а» — родная мать.
О чем кричит, и как его, солдата, понимать!
Как понимать его судьбу, его душевный рост?
Простой советский человек
совсем не так уж прост.