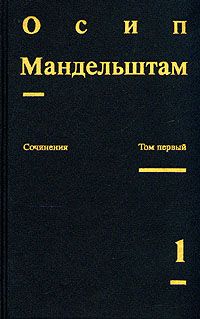Блок – важнейшее мерило русской поэзии, поэтому ему посвящена отдельная статья Барсучья нора[91] (первый вариант которой был напечатан к годовщине со дня смерти поэта), выводящая его из домашнего периода русской истории (Аполлон Григорьев, Костомаров, Соловьев, Ключевский) как просвещенного консерватора, интенсивно обогащающего свою поэзию, но ни с чем не порывающего, вплоть до монументальной частушки «Двенадцати», – в противоположность «конквистадорству» других символистов. Понять и оценить это можно только научным взглядом, отсюда добрые слова о научных работах В. Жирмунского («Поэзия Александра Блока») и Б. Эйхенбаума («Судьба Блока») и осуждение публицистических статей Р. В. Иванова-Разумника, лирических эссе Ю. И. Айхенвальда и честных воспоминаний В. А. Зоргенфрея. (Ср. высокую оценку речи и статьи И. А. Аксенова о В. Хлебникове в «Союзе Поэтов» и в «Печати и революции», 1921, № 3, – в статье «Литературная Москва». Любовь, которая движет… – последний стих «Комедии» Данте. Это же требование научного подхода, а не критического высокомерия, – в статье Выпад (поставленной в сб. «О поэзии» на программное второе место) с ее неожиданной апологией родового символического лона и обличением полуобразованной интеллигентской массы, лишившейся чувства языка. (Профессор N – Д. Н. Овсянико-Куликовский, 1853–1920, – автор «Истории русской интеллигенции», I–III, где персонажи русской классической литературы рассматривались «как живые люди».) Портрет этой «полуобразованной массы», загораживающей путь настоящему читателю, – в статье Армия поэтов (с воспоминанием о 1919–1920 гг., когда из-за недостатка типографской бумаги стихи читались в «Кафе поэтов» у футуристов, в «Стойле Пегаса» у имажинистов и т. д.). В. Каверин вспоминал, как ОМ сурово отговаривал его писать стихи точно такими же доводами.
Эпоха поэзии ощутимо для всех кончалась и подводила свои итоги; шли споры, какой должна была стать приближающаяся эпоха прозы. ОМ участвовал в этих спорах двумя статьями. Предпоследним словом русской прозы был выродившийся реализм, для всех ассоциировавшийся с горьковскими альманахами изд. «Знание»; последним словом – символистская проза, достигшая вершин в «Петербурге» А. Белого (1913). Вторая часть статьи Литературная Москва, «Рождение фабулы» [с. 530–535], выражала общее отвращение к обеим этим формам за их бесфабульность («Хорошая, интересная фабула – это признак уважения писателя к своему герою», – писал ОМ в «Письме тов. Кочину», 1929) и вводила различие понятий быт («мертвая фабула, гниющий сюжет») и фольклор («рождающийся сюжет»): первый нов только для иностранца, второй – для русского читателя. Молодых беллетристов, чутких к свежему предфабульному материалу, ОМ без разбора называет «Серапионовыми братьями», причисляя к ним не только К. Федина и Н. Никитина, но и Б. Пильняка, и В. Лидина, и молодого М. Козырева, и старого М. Пришвина. Разговор дьякона – эпизод из повести Пильняка «Метель». «Кармен» Мериме на самом деле написана в 1845 г.; эпод – финальная часть хора в греческой трагедии. Заключительная цитата о жаворонке – из Тютчева («Вечер мглистый и ненастный…»). Статья Конец романа делает дальнейший вывод: фабула, сцепление событий, мотивированных в наши дни лишь внешними социальными силами, заслоняет в романе героя с его внутренними мотивировками поступков, роман перестает быть биографией, а герой – организующим центром романа: роман возвращается к своим истокам и мысль прозаика векшей растекается по древу истории (образ из «Слова о полку Игореве»). Опытом прозы такого рода у самого ОМ стала «Египетская марка». «Для романа нужна по крайней мере каторга Достоевского или десятины Льва Толстого», – говорил он Ахматовой.
Основная мысль «Конца романа» – «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из биллиардных луз…» – неожиданно оживает через шесть лет, в 1928 г., применительно к собственной судьбе: в заметке Поэт о себе[92] ОМ благодарит революцию за то, что она «отняла у него биографию». Эта заметка была ответом на запоздало-юбилейную анкету «Советский писатель и Октябрь» с вопросами о том, что сделала революция для писателя и что должен сделать писатель для революции. Это – точное и трезвое определение поэтом своего места в новой культуре; после этого ОМ почти перестает выступать как критик.
РАЗГОВОР О ДАНТЕ. Очерк написан весной 1933 г. в Старом Крыму и в Коктебеле. «Осип весь горел Дантом, он только что выучил итальянский язык. Читал «Божественную комедию» днем и ночью», – вспоминала Ахматова. Что Данте – лишь повод, а цель очерка – идеальное изображение поэтического творчества в представлении самого ОМ, было ясно уже первым читателям: «занимаюсь «Разговором о Данте» (собственно, «о Мандельштаме», т. е. Данта там нет, – очень мало, если есть)», – писал С. Рудаков 22 марта 1936. ОМ пытался напечатать «Разговор» и в журнале, и отдельной книгой, но безуспешно.
«Разговор» представляет собой самое полное описание поэзии как живого организма (а не как механической организации) – тема, волновавшая ОМ еще с «Утра акмеизма» и «О природе слова». Теснее всего «Разговор» связан с размышлениями ОМ на естественно-научные темы («Вокруг натуралистов», «Ламарк» и особенно «Восьмистишия»). ОМ стремится представить творчество, порождающее художественные произведения, как такой же волевой процесс, «формообразующий порыв», каким образуются, по Ламарку, новые органы у живых существ. Поэзия есть динамический процесс, а не статический результат, – эта мысль проходит через все 11 глав очерка. (1) В поэзии важно только исполняющее понимание… Семантическая удовлетворенность равна чувству исполненного приказа (ср. в «Восьмистишиях»: «Как будто в руку вложена записка, и на нее немедленно ответь»). Приказ воли задает непрерывно меняющийся образ-орудие (внутренний образ стиха), а оно, реализуясь в пассивном словесном материале, дает застывший образ-пересказ (внешний образ стиха; сравнение с статическими кадрами кино – от Бергсона), в котором поэзия и не ночевала (выражение Тургенева о стихах Некрасова). Так, орнамент есть образ-орудие, а узор – образ-пересказ. Образ-орудие физически порождается движениями речевого аппарата (как у ребенка; дадаизм – левое поэтическое движение, ориентирующееся на детскую заумь, – эта же тема продолжается в гл. 8). (2) Точно так же ритм стиха физически порождается походкой, а композиция стиха – не накоплением, а сменой образов (ср. учение Тынянова о «сукцессивности» восприятия), динамически перекликающихся, как звуки в органе или пласты горных пород, а поэтому многозначных (после отработавшего образа – тени сизые смесились, цитата из Тютчева). (3) Сравнения у Данте не пассивно иллюстрируют готовый образ, а придают ему новую тягу («само бытие есть сравнение», – пишет ОМ в набросках «Разговора»; тринадцатитысячегранник – в «Комедии» 14 233 стиха). (4) Быстрая смена пестрых образов подобна разве что полету самолетов, на лету испускающих из себя новые и новые самолеты. (Похожим образом разлетающихся и вновь взрывающихся осколков снаряда А. Бергсон иллюстрировал, что такое «жизненный порыв».) Движение мысли не укладывается в застывший синтаксис, а перехлестывает его; оно несет в себе инерцию черновиков, которой нет конца, – в искусстве нет готовых вещей. (Сближение далековатых понятий – мысль из «Риторики» Ломоносова; уступчивость речи русской – из стих. М. Цветаевой «Над синевою подмосковных рощ…») (6) Дирижерская палочка нашего понимания (ср. «Вокруг натуралистов») извлекает из Данте черты современного, даже экспериментаторского мышления – но и тут он прежде всего деятель, а не маститый учитель за кирпотинским табльдотом (В. В. Кирпотин – официозный советский литературовед; библейская генетика – от «Genesis», названия Книги Бытия; Как океан объемлет шар земной – начало стих. Тютчева). (7) Так рассказ об Уголино структурой напоминает будущую балладу, а тоном будущую виолончель. (8–9) Мир Данте – научно переживаемый, а не пассивно созерцаемый, для воздействия его звукописи на психологию читающего еще нет науки (живопись, удлиняющая тела лошадей… – импрессионизм Дега; атараксия – «бестревожность», философский термин), (10) для воздействия его каллиграфичности – тоже (incroyables’и в красных жилетах – имеется в виду Т. Готье). (11) Как камень отлагает в себе природу разных тысячелетий, так Данте сводит в единую всевременность культуру разных столетий (Новалис – «Гейнрих фон Офтердинген», I, 5; Лукиан назван по ошибке вместо римского поэта Лукана, «Ад», IV; альциона… за батюшковским кораблем – из стих. «Тень друга»; глоссолалия – букв. «словоизлияние»). Заключение: изучению подлежит не застывший текст, а лежащее за ним формообразование и затем – порывообразование. Культ Данте-мистика, скульптурно-бескрасочного или таинственно-коричневого героя французских гравюр Г. Доре и стихов Блока про Тень Данта («Равенна») (гл. 4) – вульгаризация. На этот пласт поэтической характеристики Данте бегло накладывается пласт социальной его характеристики как разночинца своего времени (гл. 2), что также было важно для ОМ.