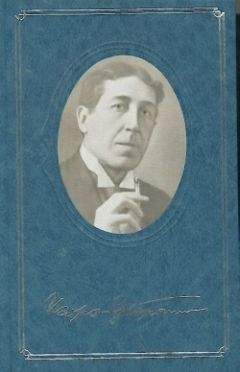Toila
1930
Есть странное женское имя — Пиама,
В котором зиянье, в котором ужал,
И будь это девушка, будь это дама, —
Встречаясь с Пиамою, — я бы дрожал…
Мне все рисовалась бы мрачная яма,
Где в тине трясинной пиавок возня,
При имени жутко-широком Пиама,
Влекущем, отталкивая и дразня…
Какая и где с ним связуется драма
И что знаменует собою оно?
Но с именем этим бездонным — Пиама —
Для сердца смертельное сопряжено.
В нем все от вертепа и нечто от храма,
В нем свет, ослепляющий в полную тьму.
Мы связаны в прошлом с тобою, Пиама,
Но где и когда — я никак не пойму.
1927
И было странно ее письмо…
И было странно ее письмо:
Все эти пальмовые угли
И шарф с причудливой тесьмой,
И завывающие джунгли.
И дикий капал с деревьев мед,
И медвежата к меду никли.
Пожалуй, лучше других поймет.
Особенности эти Киплинг.
Да, был болезнен посланья тон:
И фраза о безумном персе,
И как свалился в речной затон
Взлелеянный кому-то персик.
Я долго вчитывался в листок,
Покуда он из рук не выпал.
Запели птицы. Загорел восток.
В саду благоухала липа.
И в море выплыл старик-рыбак,
С собою сеть везя для сельди.
Был влажно солонен его табак
На рыбой пахнущей «Гризельде».
1929
Я — плутоватая, лукавая сорока
И я приятельница этих строк,
Живущих в бедности по мудрой воле рока,
Про все вестфальские забыв окорока…
Собравшись в праздники у своего барака,
Все эти нищие, богатые враньем,
Следят внимательно, как происходит драка
Меж гусем лапчатым и наглым вороньем…
Уж я не знаю, что приходит им на память,
Им, созерцающим сварливых птиц борьбу,
Но мечут взоры их разгневанные пламя,
И люди сетуют открыто на судьбу.
Но в этом мире все в пределах строгих срока,
И поле брани опустеет в свой черед.
Тогда слетают к сорока, их друг сорока,
И руки тянутся ко мне вперед, вперед.
Тот крошки хлебные мне сыплет, тот — гречихи,
Один же, седенький, всегда дает пшена.
Глаза оборвышей становятся так тихи,
Так человечны, что и я поражена.
Так вот что значит школа бед! Подумать только!
Тот говорит: «Ты, точно прошлое, легка…»
Другой вздыхает: «Грациозна, словно полька…»
И лишь один молчит — один из сорока.
Презрительно взглянув на рваную ораву,
Он молвит наконец: «Все это ерунда!
Она — двусмысленный, весьма игривый траур
По бестолочи дней убитых, господа».
1929
Метелит черемуха нынче с утра
Пахучею стужею в терем.
Стеклянно гуторят пороги Днепра,
И в сердце нет места потерям, —
Варяжское сердце соловкой поет:
Сегодня Руальд за Олавой придет.
А первопрестольного Киева князь,
Державный гуляка Владимир,
Схватился с медведем, под зверем склонясь,
Окутанный в шерсти, как в дыме.
Раскатами топа вздрожала земля:
На вызвол к Владимиру скачет Илья.
А следом Алеша Попович спешит,
С ним рядом Добрыня Никитич.
— Дозволим ли, — спрашивают от души: —
Очам Красно-Солнечным вытечь? —
И рушат рогатиной зверя все три —
Руси легендарные богатыри.
Но в сердце не могут, хоть тресни, попасть.
Не могут — и все! Что ты скажешь!
Рогатины лезут то в брюхо, то в пасть,
И мечется зверь в смертном раже.
— А штоб тебя, ворог!.. — Рев. Хрипы. И кряк.
Вдруг в битву вступает прохожий варяг.
И в сердце Олавином смолк соловей:
Предчувствует горе Олава —
За князя Руальд, ненавистного ей,
Жизнь отдал, — печальная слава!
И вьюгу черемуха мечет в окно,
И ткет погребальное ей полотно…
1929
Нередко в сумраке лиловом
Возникнет вдруг, как вестник бед,
Та, та, кто предана Орловым,
Безродная Еlisabeth,
Кого, признав получужою,
Нарек молвы стоустый зов
Princesse Владимирской, княжною
Тьму-Тараканской, dame d'Azow.
Кощунственный обряд венчанья
С Орловым в несчастливый час
Свершил, согласно предписанья,
На корабле гранд де Рибас.
Орловым отдан был проворно
Приказ об аресте твоем,
И вспыхнуло тогда Ливорно
Злым, негодующим огнем.
Поступок графа Алехана
Был населеньем осужден:
Он поступил коварней хана,
Предателем явился он!
Граф вызвал адмирала Грейга, —
Тот слушал, сумрачен и стар.
В ту ночь снялась эскадра с рейда
И курс взяла на Гибралтар.
— Не дело рассуждать солдату, —
Грейг думал с трубкою во рту.
И флот направился к Кронштадту,
Княжну имея на борту.
И шепотом гардемарины
Жалели, видя произвол,
Соперницу Екатерины
И претендентку на престол.
И кто б ты ни был, призрак смутный,
Дочь Разумовского, княжна ль
Иль жертва гордости минутной,
Тебя, как женщину, мне жаль.
Любовник, чье в слиянье семя
Отяжелило твой живот,
Тебя предал! Он проклят всеми!
Как зверь в преданьях он живет!
Не раз о подлом исполине
В тюрьме ты мыслила, бледнев.
Лишь наводненьем в равелине
Был залит твой горячий гнев.
Не оттого ль пред горем новым
Встаешь в глухой пещере лет
Ты, та, кто предана Орловым,
Безродная Elisabeth.
1923, 28 янв.
Магнолии — глаза природы —
Раскрыл Берлин — и нет нам сна…
…По Эльбе плыли пароходы,
В Саксонии цвела весна.
Прорезав Дрезден, к Баденбаху
Несясь с веселой быстротой,
Мы ждали поклониться праху
Живому Праги Золотой.
Нас приняли радушно чехи,
И было много нам утех.
Какая ласковость в их смехе,
Предназначаемом для всех!
И там, где разделяет Влтава
Застроенные берега,
И где не топчет конь Вацлава
Порабощенного врага,
Где Карлов мост Господни Страсти
Рельефит многие века,
И где течет в заречной части
Венецианская «река»,
Где бредит уличка алхимья,
И на соборе, в сутки раз,
Вступает та, чье смрадно имя,
В апостольский иконостас,
Там, где легендою покрыто
Жилище Фауста и храм,
Где слала Гретхен-Маргарита
Свои молитвы к небу, — там,
Где вьются в зелени овраги,
И в башнях грезят короли,
Там, в золотистой пряже Праги
Мы с явью бред переплели.
Yarve
1925
Нарва («Над быстрой Наровой, величественною рекой…»)
Над быстрой Наровой, величественною рекой,
Где кажется берег отвесный из камня огромным,
Бульвар по карнизу и сад, называемый Темным,
Откуда вода широко и дома далеко…
Нарова стремится меж стареньких двух крепостей —
Петровской и шведской, — вздымающих серые башни.
Иван-город тих за рекой, как хозяин вчерашний,
А ныне, как гость, что не хочет уйти из гостей.
На улицах узких и гулких люблю вечера,
Когда фонари разбросают лучистые пятна,
Когда мне душа старой Нарвы особо понятна,
И есть вероятья увидеться с тенью Петра…
Но вместо нее я встречаю девический смех,
Красивые лица, что много приятнее тени…
Мне любо среди молодых человечьих растений,
Теплично закутанных в северный вкрадчивый мех.
И долго я, долго брожу то вперед, то назад.
Любуясь красой то доступной, то гордо-суровой,
Мечтаю над темень пронизывающей Наровой,
Войдя в называемый Темным общественный сад.
Двинск