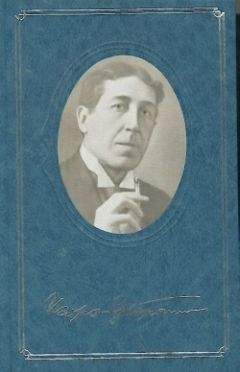1927
Годами девочка, а как уже черства,
Жестка, расчетлива, бездушна и практична.
И в неприличности до тошноты прилична,
И все в ней взвешено: и чувства, и слова.
Ах, не закружится такая голова
Затем, что чуждо ей все то, что поэтично…
Такая женщина не любит никого,
Но и ее любить, конечно, невозможно:
Все осторожно в ней, бескрыло и ничтожно.
Толпа любовников, и нет ни одного,
О ком подумала бы нежно и тревожно…
И это — женщина, земное божество!
1929
Изменить бы! Кому? Ах, не все ли равно!
Предыдущему. Каждому. Ясно.
С кем? И это не важно. На свете одно
Изменяющееся прекрасно.
Одному отдаваясь, мечтать о другом —
Неиспробованном, невкушенном,
Незнакомом вчера, кто сегодня знаком
И прикинется завтра влюбленным…
Изменить — и во что бы ни стало, да так,
Чтоб почувствовать эту измену!
В этом скверного нет. Это просто пустяк.
Точно новое платье надену.
И при этом возлюбленных так обмануть,
Ревность так усыпить в них умело,
Чтобы косо они не посмели взглянуть, —
Я же прямо в глаза бы посмела!
Наглость, холод и ложь — в этом сущность моя.
На страданья ответом мой хохот.
Я красива, скользка и подла, как змея,
И бездушно-суха, как эпоха.
22 декабря 1928
Этой милой девушке с легкою недужинкой
В сердце, опрокинутом в первый же полет,
Доброглазой девушке, названной Жемчужинкой,
Ливней освежительных счастье не прольет.
Сердце обескрыливший юноша хорошенький
Причинил нечаянно жгучую печаль.
«Боже! Правый Господи! Не вреди Алешеньке:
Был он легкомысленным, и его мне жаль…»
Сердце успокоивший, нелюбимый девушкой,
Женщиной разлюбленный, преданностью мил…
Разве успокоиться ей в такой среде мужской?
Ждать же принцев сказочных не хватает сил.
И не надо, гнилая, этих принцев сказочных:
Чванные и глупые. Скучные они.
И они не стоят ведь лент твоих подвязочных,
И от встречи с принцами Бог тебя храни!
Так-то, безудачная мужняя безмуженка,
Жертвы приносящая в простоте своей,
Смерть не раз искавшая, кроткая Жемчужинка,
Драгоценный камешек средь людских камней!
1928
Антинэя! При имени этом бледнея,
В предвкушенье твоих умерщвляющих чар,
Я хотел бы пробраться к тебе, Антинэя,
В твой ужасный — тобою прекрасный — Хоггар.
Я хотел бы пробраться к тебе за откосы
Гор, которые скрыли действительность — мгла.
Мне мерещатся иссиня-черные косы,
Изумруд удлиненных насмешливых глаз.
Мне мерещится царство, что скрыто из вида
И от здравого смысла, поэма — страна,
Чье названье — загадка веков — Атлантида,
Где цветет, Антинэя, твой алчный гранат.
О, когда бы, познав зной извилистой ласки,
Что даруют твои ледяные уста,
В этой — грезой французскою созданной — сказке.
Сто двадцатой — последнею — статуей стать!..
1929
Ты только что была у проходимца Зета,
Во взорах похоти еще не погася…
Ты вся из Houbigant! ты вся из маркизета!
Вся из соблазна ты! Из судорог ты вся!
И чувствуя к тебе брезгливую предвзятость
И зная, что тебе всего дороже ложь,
На сладострастную смотрю твою помятость
И плохо скрытую улавливаю дрожь.
Ты быстро говоришь, не спрошенная мною,
Бесцельно лишний раз стараясь обмануть,
И, будучи чужой неверною женою,
Невинность доказать стремишься как-нибудь.
Мне странно и смешно, что ты, жена чужая,
Забыв, что я в твоих проделках ни при чем,
Находишь нужным лгать, так пылко обеляя
Себя в моих глазах, и вздрагивать плечом…
И это тем смешней, и это тем досадней,
Что уж давным-давно ты мой узнала взгляд
На всю себя. Но нет: с прозрачной мыслью задней
Самозабвенно лжешь — и часто невпопад.
Упорно говоришь о верности супружьей, —
И это ты, чья жизнь — хронический падеж, —
И грезишь, как в четверг, в час дня, во всеоружье
Бесстыдства, к новому любовнику пойдешь!
Toila
1930
Еще одно воспоминанье выяви,
Мечта, живущая бывалым.
…Вхожу в вагон осолнеченный в Киеве
И бархатом обитый алым.
Ты миновалась, молодость, безжалостно,
И притаилась где-то слава…
…Стук в дверь купе. Я говорю: «Пожалуйста!»
И входит женщина лукаво.
Ее глаза — глаза такие русские.
— Вот розы. Будь Вам розовой дорога!
Взгляните, у меня мужские мускулы, —
Вы не хотите их потрогать? —
Берет меня под локти и, как перышко,
Движением приподнимает ярым,
И в каждом-то глазу ее озерышко
Переливает Светлояром.
Я говорю об этом ей, и — дерзкая —
Вдруг принимает тон сиротский:
— Вы помните раскольников Печерского?
Я там жила, в Нижегородской.
Я изучила Светлояр до донышка…
При мне отображался Китеж… —
Звонок. Свисток. «Послушайте, Вы — Фленушка?»
— Нет, я — Феврония. Пустите ж!
Toila
1930
Я проснулся в слегка остариненном
И в оновенном — тоже слегка! —
Жизнерадостном доме Иринином
У оранжевого цветника.
И пошел к побережью песчаному
Бросить к западу утренний взор.
Где, как отзвук всему несказанному,
Тойла в сизости вздыбленных гор…
И покуда в окне загардиненном
Не сверкнут два веселых луча,
Буду думать о сердце Иринином
И стихи напишу сгоряча!
А попозже, на солнечном завтраке,
Закружен в карусель голосов,
Стану думать о кафровой Африке,
Как о сущности этих стихов…
Шмецке
29 авг. 1930
Она заходила антрактами —
красивая, стройная, бледная,
С глазами, почти перелитыми
всей синью своей в мои,
Надменная, гордая, юная
и все-таки бедная-бедная
В ей чуждом моем окружении
стояла, мечту затаив.
Хотя титулована громкая
ее мировая фамилия,
Хотя ее мужа сокровища
диковинней всяких чудес,
Была эта тихая женщина —
как грустная белая лилия,
Попавшая в море, — рожденная,
казалось бы, грезить в пруде…
И были в том вычурном городе
мои выступленья увенчаны
С тюльпанами и гиацинтами
бесчисленным строем корзин,
К которым конверты приколоты
с короной тоскующей женщины,
Мечтавшей скрестить наши разные,
опасные наши стези…
Но как-то все не было времени
с ней дружески поразговаривать:
Иными глазами захваченный,
свиданья я с ней не искал,
Хотя и не мог не почувствовать
ее пепелившего зарева,
Не знать, что она — переполненный
и жаждущий жажды бокал…
И раз, только раз, в упоении
приема толпы триумфального,
Спускаясь со сцены по лесенке,
ведущей железным винтом,
Я с нею столкнулся, прижавшейся
к стене, и не вынес печального
Молящего взора — дотронулся
до губ еще теплым стихом…
Toila