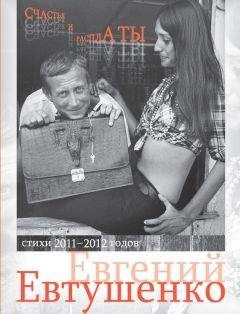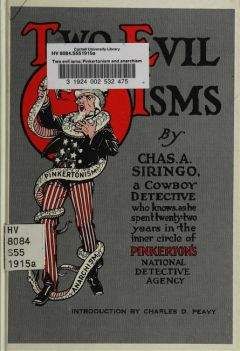Мандельштам и Дзержинский
Не Маяковский с пароходным рыком,
не Пастернак в кокетливо-великом
камланьи соловья из Соловков,
а Мандельштам с таким ребячьим взбрыком,
в смешном бесстрашьи, петушино-диком,
узнав рябого урку по уликам,
на морду, притворившуюся ликом,
клеймо поставил на века веков.
Но до тридцатых началась та драма.
Был Блюмкин знаменитей Мандельштама.
Эсер-чекист в церквях, кафешантанах
вытаскивал он маузер легко.
Ах, знала бы «Бродячая собака»,
что от ее хмельного полумрака
до мерзлых нар колымского барака
писателям не так уж далеко.
Пил Блюмкин, оттирая водкой краги
от крови трупов, сброшенных в овраги,
а рядом – с рюмкой плохонькой малаги
стихи царапал, словно на колу,
поэт в припадке страха и отваги
и доверял подследственной бумаге
то, что нельзя доверить никому.
Все умники, набив пайками сумки,
прикинулись тогда, что недоумки,
а он ушел в опасные задумки,
не думать отказавшись наотрез.
Трусливо на столах дрожали рюмки,
когда хвастливо тряс убийца Блюмкин
пустыми ордерами на арест.
Не те, что красовались в портупеях,
Надеясь на бессмертье в эпопеях,
А Мандельштам, витавший в эмпиреях,
Всегда ходивший в чудиках-евреях
И вообще ходивший налегке,
спасая совесть – глупую гордячку,
почти впадая в белую горячку,
вскочил и вырвал чьих-то жизней пачку,
зажатую в чекистском кулаке.
Размахивая маузером, Блюмкин
погнался, будто Мандельштам был юнкер
из недобитков Зимнего дворца.
А тот, пока у ямы не раздели,
бежал и рвал аресты и расстрелы,
бежал от неизбежного конца.
Дзержинский был непоправимо мрачен
и посещеньем странным озадачен.
«Юродивый» – был вывод однозначен,
когда небрит, взъерошен и невзрачен
в ЧК защиты попросил поэт.
«Неужто чист? Ведь и в ЧК нечисто…
Все слиплось – и поэты, и чекисты.
В ЧК когда-то шли идеалисты
или мерзавцы… Первых больше нет…»
И Мандельштама он спросил, терзаясь:
«Возможен ли идеалист-мерзавец?»
«Еще и как! – воскликнул Мандельштам
и засмеялся: – Бросьте вашу зависть,
Я муками не меньше угрызаюсь.
Идеалист-мерзавец я и сам…»
Железный Феликс возвратился к делу
и буркнул в трубку: «Блюмкина – к расстрелу».
«О, только не расстрел… – вскричал поэт… —
Ему бы посидеть, хотя б немного,
тогда, быть может, вспомнит он про Бога.
Стрелялку бы отнять – вот мой совет…»
Поэт вертелся на чекистском стуле,
как будто уклонялся он от пули:
«Скажите, а бывает иногда
что вы… вы отпускаете невинных?»
Вопросов столь прямых и столь наивных
не ждал Дзержинский. Был ответ наигран:
«Ну, это дело не мое – суда…»
На этот раз был Мандельштам отпущен.
«Он идиот. Он Мышкин, а не Пушкин…» —
подумал председатель ВЧК.
Мерзавцем сам себя назвал. Не выдал
мне Блюмкина. Сам ищет свою гибель.
Настолько беззащитных я не видел,
но этим он и защищен… пока…»
И, выйдя из чекистского палаццо,
шумнее карнавального паяца,
стал Мандельштам отчаянно смеяться,
лишь чудом ускользнув из рук того,
кто всю Россию приучил бояться,
а сам боялся сердца своего.
Разорвалось. Не вынесло всего.
В России все виновны без презумпций.
Исполнивший обязанность безумства,
не позабыв там, в мерзлоте, разуться,
прижался Мандельштам к другим ЗК,
и, созерцая воровство и пьянки,
беспомощный Дзержинский на Лубянке
окаменел, да вот не на века.
Что уцелело? Блюмкинские бланки,
но их теперь в расчетливой подлянке
подписывает шепот – не рука.
Все профессиональные герои
теряют обаянье роковое.
Немыслим профессионал-пророк.
Бессмертны лишь герои-дилетанты,
неловкие с эпохой дуэлянты,
не знающие, как нажать курок.
Гранитных статуй не глодают черви,
но не защищены они от черни,
и шествует возмездье по пятам,
и, свеженький, из мерзлоты, с морозца
рвет приговоры чьи-то и смеется
мучительно смешливый Мандельштам.
1—29 ноября 1998
Кто в двадцатом столетии
всех поэтов поэтее?
Кто глодал ртом беззубым
жмых, подаренный лагерным лесорубом,
как парижский каштан,
и вплетал то Петрарку, то Лорку
в уголовную скороговорку?
Доходяга смешной Мандельштам.
Речи о мировой справедливости
на трибунах не произносил,
просто корчился от брезгливости,
ибо вынести не было сил
уголовника, жирным пальчищем
книг страницы в гостях только пачкающим,
ногтем, дурно от крови пахнущим,
рассекавшего их, что есть сил.
Выше мнимой свободы личности,
трепотни ни о чем и вообще
отвращенье к негигиеничности,
если трупы кусками в борще.
На крови разводили красивости,
но для нашей и каждой страны
нет политики чище брезгливости
к пальцам тем, что, как черви, жирны.
Слишком шумно махали мы флагами,
чтобы стоны из мерзлоты
не тревожили мыслью о лагере
лжеспасительной глухоты.
Но, как будто под кожу зашитое,
завещанье, рожденное там,
стали ваши стихи нам защитою,
чтоб мы стали
не тупо счастливее,
а немножечко побрезгливее.
В литературе недолюбливают яканье.
Но как нам повезло,
Надежда Яковлевна,
что вы спасли,
эпоху раскроя,
свое чуть злое,
неуступчивое «я».
Как хорошо,
что с кошкой царапучей
его когда-то познакомил случай.
Счастливец!
Не достался милым кисам.
Он не написан Вами,
а дописан.
Соавтором его,
его женой
Вы стали.
Вам бы памятник двойной.
Меня, конечно, радостью покачивало,
когда в какой-то очень давний год
я получал в Тоскане
премию Боккаччио,
но ощутил —
вина меня гнетет.
Не проступили на руках ожоги,
но понимал я, что беру чужое,
Я сбился вдруг.
Меня все подождали,
и я заговорил о Мандельштаме.
Ведь нечто видел он поверх голов,
нас, еще агнцев,
на плечах таская,
«от молодых воронежских холмов
к всечеловеческим,
яснеющим в Тоскане».
И на такой ли все мы высоте,
проигрывая с бескультурьем войны,
и получаем премии все те,
которых лишь погибшие достойны?
Памятник Мандельштаму в Воронеже
Есть политика бескультурья.
Притворяется мыслящим сброд,
будто прыткие бесы, колдуя,
заморачивают народ.
Бескультурье, ты души воруешь,
но не рано ль отчаяться нам,
если все же вернулся в Воронеж
хрупко бронзовый Мандельштам?
Бескультурье не дремлет, как скверна.
Лишь бы злобы он вновь не навлек,
и торчит среди пыльного сквера
неуверенный хохолок.
Июнь – июль 2011
Вы, песни, нас жалеете,
под пули, снег и дождь,
и если обмелеете,
мы обмелеем тож.
Когда поют завалинки,
ввысь уходя, в полет,
то ни одной завянинки
в глазах тех, кто поет.
А если песни каторжные,
то горе – не беда
тем, кто не делал катышей
из хлеба никогда.
И слушает вселенная,
бессильная заснуть,
любовные, военные
и с перчиком чуть-чуть.
Все песни многоавторны,
А безымянных столь,
где авторы попрятаны
в их собственную боль.
Держитесь, песни русские.
Пока еще вы есть.
И совесть не разрушится,
и уцелеет честь.
Вам люди благодарствуют,
но песням нет цены.
Пусть женщины в них царствуют,
а не царьки, цари.
Вы, песни, нас жалеете
под пули, снег и дождь,
а если обмелеете,
мы обмелеем тож.
Сентябрь 2011
Василий Туманский
1800–1860
Ах, Туманский, ах, Василий,
понаделал он делов.
Мы не стали бы Россией
без таких, как он, хохлов.
Он родился в Чарторигах,
правил бричкой, сено греб,
а потом родился в книгах
и стихи писал взахлеб.
Дипломатом стал он истым,
как «Вдова Клико», игрист.
Был он днем канцеляристом,
а ночами – декабрист.
И в чиновничьей России
до обуглившихся дыр
бунт во всех не погасили —
прожигает вицмундир.
Лишь в России нам не внове,
что, кропаючи, как встарь,
после службы и чиновник
лишь оплаченный бунтарь.