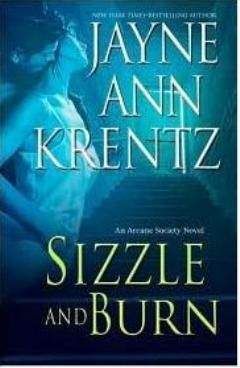«У зимней тьмы печали полон рот…»
У зимней тьмы печали полон рот,
Но прежде, чем она его откроет,
Огонь небесный вдруг произойдет —
Метеорит, ракета, астероид.
Огонь летит над грязной белизной,
Зима глядит на казни и на козни,
Как человек глядит в стакан порожний,
Уже живой, еще полубольной.
Тут смысла нет, и вымысла тут нет,
И сути нет, хотя конец рассказу.
Когда я вижу освещенный снег,
Я Ваше имя вспоминаю сразу.
В Павловском парке снова лежит зима,
и опускается занавес синема́.
Кончен сеанс, и пора по домам, домам,
кто-то оплывший снежок разломил пополам.
Снова из Царского поезд застрял в снегах,
падает ласково нежный вечерний прах,
и в карамельном огне снова скользит каток,
снова торгует водой ледяной лоток.
Сколько не видел я этого?
Двадцать, пятнадцать лет,
думал — ушло, прошло,
но отыскался след.
Вот на платформе под грохот товарняка
жду электричку последнюю — будет наверняка.
Вон у ограды с первой стою женой,
все остальные рядом стоят со мной.
Ты, мой губастый, славянскую хмуришь бровь,
смотришь с опаской на будущую любовь —
как хороша она в вязаном шлеме своем, —
будет вам время, останетесь вы вдвоем.
Ты, моя пигалица, щебечущая кое-как,
вечный в словах пустяк, а в голове сквозняк.
Что ты там видишь за павловской пеленой —
будни и праздники, понедельничный выходной?
Ты, настороженный, рыжий, узлом завязавший шарф, —
что бы там ни было — ты справедлив и прав!
Смотрит в затылок твой пристально Аполлон,
ты уже вытянул свой золотой талон.
Ты, мой брюнетик, растерзанный ангелок,
что же? Приветик. Но истинный путь далек.
Через столицы к окраинному шоссе.
Надо проститься. А ну, подходите все!
Глянем на Павла, что палкой грозит, курнос.
Что-то пропало, но что-нибудь и нашлось!
Слезы, угрозы, разграбленные сердца,
прозы помарки и зимних цветов пыльца.
Чашечка кофе и международный билет —
мы не увидимся, о, не надейтесь, нет!
Ты, моя бедная, в новом пальто чудном —
что же мне делать? Упасть на снега ничком?
В этом сугробе завыть, закричать, запеть?
Не остановитесь. Все уже будет впредь.
Падают хлопья на твой смоляной завиток —
я-то все вижу, хоть я негодяй, игрок.
Кости смешаю, сожму ледяной стакан,
брошу, узнаю, что я проиграл, болван,
взор твой полночный и родинку на плече —
я не нарочно, а так, второпях, вообще.
В Павловском парке толпится девятка муз,
слезы глотает твой первый, неверный муж.
В Павловском парке вечно лежит зима,
падает занавес, кончено синема.
Вот я вбегаю в последний пустой вагон,
лишь милицейский поблескивает погон.
Сядь со мной рядом, бери, закури, дружок, —
над Ленинградом кто-то пожар зажег, —
тусклого пламени — время сжигает все,
на знамени Бог сохраняет все.
«Ночной истребитель, во мраке…»
Ночной истребитель, во мраке
Пронзающий правду и ложь,
Как будто бы пачку бумаги
Проходит охотничий нож.
Раскинув косыми крылами,
Уставший от тайных трудов,
Ты падаешь в грязное пламя
Бесчинствующих городов.
Убийство твое поправимо,
Хотя и окончен полет.
Ты — женщина наполовину,
И это спасенье твое.
Лежишь на случайной постели,
Зеленым зрачком поводя,
Ты кто же теперь в самом деле,
Машина? Русалка, дитя?
Я стал бы твоим ординарцем,
Когда бы не знал наперед,
Что в небе твоем кардинальском
Погибну, как первый пилот.
Тебя обуздать невозможно,
Любить тебя надо, пока
Не сгинешь ты тварью безбожной
В ночные свои облака.
«Темный дождик в переулке…»
Темный дождик в переулке,
Негде высушить носки —
Вот про это пели урки,
Умирая от тоски.
Вот про это, вот про это,
Вовсе ни о чем другом.
Никого нельзя проведать,
И никто не пустит в дом.
Черный кофе, черный кофе,
Красно-белое вино,
Дорогие, что вы, что вы,
Разве вам не все равно?
Если я войду незваный,
Отсыревший до нутра
И устроюсь возле ванной
До шести часов утра?
Что же делать? Что же делать?
Кто-то запер адреса.
Он же щедро сыплет мелочь
Чаевую в небеса.
Или, может быть, оттуда
Водопадом пятаков
Опускается простуда —
Заработок простаков.
Нас двое в пустынной квартире,
Затерянной в третьем дворе.
Пока я бряцаю на лире,
Он роется в календаре,
Где все еще свежие краски
И чьи-то пометки видны,
Но это касается русско —
Японской забытой войны.
Ему уже за девяносто.
Куда его жизнь занесла! —
Придворного орденоносца
И крестик его «Станислав».
Придворным он был ювелиром,
Низложен он был в Октябре.
Нас двое, и наша квартира
Затеряна в третьем дворе.
А он еще помнит заказы
К светлейшему дню именин,
Он помнит большие алмазы
И руки великих княгинь.
Он тайные помнит подарки,
Эмаль и лазурь на гербах,
И странные помнит помарки
На девятизначных счетах.
Когда он, глухой, неопрятный,
Идет, спотыкаясь, в сортир,
Из гроба встает император,
А с ним и его ювелир.
И тяжко ему. Но полегче
Вздыхает забытый сосед,
Когда нам приносят повестки
На выборы в Суд и Совет.
Я славлю Тебя, Государство!
Твой счет без утрат и прикрас,
Твое золотое упрямство,
С которым ты помнишь о нас.
Прекрасна родина. Чудесно жить в ладу
С ее просторами, садами, городами,
Вытягиваться утром в высоту
И понимать на ветреном мосту
Волны пронырливое рокотанье.
Вернуться за полночь домой. До мозжечка
Втянуть дымок и повернуть свой ключик,
Но поздней осенью не выплесть из венка
Ни роз, ни листьев, ни колючек.
Прекрасна родина. Сады ее пусты.
Нет поздней осенью от холода защиты.
И все-таки завьюженной плиты
Не променяй на выжженные плиты.
Согрейся как-нибудь. Укройся с головой,
Прости хоть до утра несносные обиды.
Не спится? Ничего. Лежи, глаза закрой,
Припомни всех — столь многие забыты.
Ты видел их, ты знал. Ты с ними заодно
На собственный манер страну свою устроил.
Так зябко в комнате, так жутко. Но зато
Рассветный этот час тебе полжизни стоил.
Пора на холодок. Пододеяльник жестк,
А новый день похож на старое лекало.
И зеркало послушнее, чем воск,
Оттиснет твой портрет и подмигнет лукаво.
На шестисотом километре колодец есть у полотна,
Там глубока до полусмерти вода и слишком холодна.
Но нет другой воды поблизости, и, поворачивая ворот,
Я каплю потную облизываю, пока не капнула за ворот.
И достаю я пачку «Джебела», сажусь на мокрую скамейку,
Вытягиваю вместо жребия надкушенную сигаретку.
Мои зрачки бегут вдоль линии.
Сначала в сторону Варшавы,
Где облаками соболиными закрыты дальние составы.
Но сладко мне в другую сторону спешить,
к родному Ленинграду,
И подгонять нерасторопную в пути путейскую бригаду.
О паровозы с машинистами, позавчерашняя потеха,
Как сборники с имажинистами, вы — техника былого века.
И я не понимаю спутников, транзисторов и радиации,
А понимаю я распутников, что трижды переодеваются,
И, не спеша, сидят за столиком,
и медленно следят за женщиной,
Позируя перед фотографом из этой вечности засвеченной.
На свете что непостояннее, чем жизнь?
Отстав от века скорого,
Не наверстать мне расстояния,
как пассажирскому до скорого.
Я докурил, и боль курения дошла до клапана
уставшего.
Пришла пора испить забвения
из этого колодца страшного.