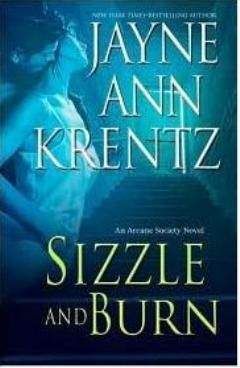ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ
Ты подходишь к большой реке,
Возле чудищ Египта стоишь.
В мастерской на твоем чердаке
Хлам забвения, тьма и тишь.
Отворяешь дверь на балкон —
В этот час сверкает залив,
И заката Лаокоон
Стянут тучами вкось и вкривь.
Погляди на старый портрет,
Нарисованный так давно.
Тот, кто был здесь, сошел на нет,
Словно вышел за полотно.
Из футболок, спартакиад
Он давно пересажен в «ЗИС»,
Но еще он бывает рад
Выбить в парке почетный приз.
И уже восточный экспресс
Тащит в девять столиц его,
И подстегивает интерес
Все устроить из ничего.
Он еще попадет в Мадрид
И пробьет Беломорканал,
Захохочет еще навзрыд —
Он и в Мексике побывал.
В шевиотовое нутро
Он сует именной «ТТ»,
Шоколадное серебро
Ночью падает в декольте.
Что же будет в конце концов?
Как всегда: ничего и все,
А пока с ним нарком Ежов
Пьет в Алупке «Абрау-Дюрсо».
И пройдет миллион эпох,
Чернозем войдет в мезозой.
И вы видим: портрет не плох,
Светит искренней бирюзой.
Сквозь испорченные часы
Виден сурик и изумруд.
Жизнь и живопись так чисты —
Плоть покинут и не умрут.
«Деревянный дом у вокзала…»
Деревянный дом у вокзала
Безобразной окраины Ганзы,
Где внезапно зауважала,
Приютила свои сарказмы
Просвещенная часть России…
Деревянный, где маневровый
Паровозик гудит разине,
Торопясь с трамваями вровень.
Пахнет кофе, копченой рыбой,
Гальюнами и просто пивом,
А в кофейнях пахнет «Элитой»,
В Кадриорге пахнет отливом,
Белой ночью болеют окна,
Истекая розовым гноем,
И флюгарка взывает тонко
К милым братьям за мелким морем…
Чепуха… Ни сестры, ни брата,
Только ты за стеной фанерной,
Двадцать лет приезжаю кряду
И приеду еще, наверно.
Разливай по стаканам водку,
Говори о дурацких сплетнях,
Но не жди никакого проку
От пятнадцати лет последних —
Мы давно перешли границу,
Нам давно обменяли паспорт,
Мы загнули свою страницу
И забыли, что было, насмерть.
И лишь утречком в воскресенье,
Когда сливки бегут в кофейник
И когда голова леченье
Принимает от легких денег,
Век связует свои суставы
И натягивает сапожки,
И мяукает Окуджава
Голоском беспризорной кошки.
Размешен снег и прах,
распутица несносна,
и на семи холмах
Москва великопостна.
Промокли сапоги
на площадях Восстаний.
Поди-ка обеги
все семь высотных зданий.
Поди-ка получи
сто семь рублей и мелочь…
Холодные ключи
в какую щель нацелишь?
О, как разбухла дверь
разрушенной квартиры,
и падает капель
за воротник задиры.
Перекрести, Москва,
меня на эту Пасху.
Уймись, моя тоска,
и повтори подсказку:
залечь до сентября
вблизи Преображенской,
где смутная заря
чадит в тиши блаженной.
И дальний перестук,
что возле трех вокзалов, —
последний близкий друг
всех павших и усталых.
«Грай вороний над бульваром…»
Грай вороний над бульваром.
Лыжи пахнут скипидаром,
И упрямый лыжник сам
Ходит на ногах негибких
Около ворот Никитских
Ровно в полночь, по часам.
Вот зима посередине,
Жизнь сама посередине —
Ни начала
ни конца.
В теплокровной сердцевине
Нет печали и в помине —
Толчея, как в магазине
За углом без продавца.
Кто-то движется под снегом,
Поцелует,
обоймет,
Пощекочет мокрым мехом,
Пошурует по прорехам —
Может, этот и поймет!
Полчаса до темноты,
Вот теперь давай на «ты».
А вокруг лежит огромной
Рыхлой грядкой огородной
Протянувшийся квартал.
Я и сам такою ночью
Вижу, вижу все воочью —
Что хотел и чем не стал.
Посреди Великой Садовой,
В самом сердце чужой Москвы,
Ни к чему еще не готовой,
Не поправившей головы,
Я стою.
Облетает осень
Свежим золотом сентября,
Как ненужный агент заброшен
И засвечен почти зазря.
Для чего генерал трехзвездный
Мне о Родине лепетал?
Для чего истребитель поздний
Над зенитками пролетал?
Для чего я ампулы с ядом
Вшил в отглаженный воротник?
Для чего я жил с вами рядом?
Постарел, поглупел, обвык…
Там, на родине, в тайных списках,
В петроградском родном дыму…
Никогда не увижу близких,
Мать-Отчизну не обниму.
Я узнал о Москве такое,
Что не надо царя Петра,
И она погорит, что Троя,
И останется лишь дыра.
Но забыты мои шифровки,
По ночам передатчик ждет,
И бедняга связной в столовке
Диетический суп жует.
И в свой час упаду, ощерясь,
На московский чумной погост —
Только призрак прорвется через
Разведенный Дворцовый мост.
Старый бродяга в Аддис-Абебе…
Николай Гумилев
Старый бродяга из Коктебеля,
одиннадцать лет собачьего стажа,
почти чистокровная немецкая овчарка,
ты разлегся у меня под ногами,
безразличен к телевизору,
к суматохе на веранде.
В страшном ящике — полуфинал футбола,
за столом — последние сплетни, —
даже к ним ты равнодушен.
А ведь ты известен в самых дальних странах:
в Лондоне, Нью-Йорке, Монреале,
в Сан-Франциско, Мюнхене и Париже
тебя вспоминают.
Потому что многие прошли через веранду.
Ты гремел навстречу им цепью,
лаял охотно или так, для отчета,
тогда освобождали твой ошейник.
Грудь свою раздувая достойно,
появлялся ты на веранде.
«Джим! — кричали тебе. — Джимушка, Джимчик!»
Это было приятно.
Но достоинство — вот что основное.
Гости приходят и уходят,
но немецкая овчарка остается…
Год за годом приходили гости,
год за годом говорили гости,
пили пиво, чай, молоко и водку,
повторяли смешные словечки:
«мандриан», «шагал», «евтушенко»,
«он уехал», «она уехала», «они уезжают»,
«кабаков», «сапгир», «савицкий», «бродский»,
«джексон поллак», «веве набоков», «лимонов»
и опять — «уехали», «уезжают», «уедут»…
Вот и стало на веранде не так тесно,
но всегда приходит коровница Клава
и приносит молоко в ведерке,
и шумит, гремит проклятый ящик.
Дремлешь, Джим? Твое, собака, право.
Вот и я под телевизор засыпаю,
видно, наши сны куда милее
всей этой возни и суматохи.
Не дошли еще мы до кончины века,
уважаемая моя собака.
Почему же нас обратно тянет
в нашу молодость, где мы гремели цепью?
«Самой природы вечный меньшевик…»
«Самой природы вечный меньшевик»[8],
давным-давно я от себя отвык:
ни шутки, ни попойки — Иегова
лишил меня на партсобранье слова,
еще немного — и лишит мандата…
Ну что ж такого, жизнь не виновата.
Знай плещет у метро, стоит ретиво
в затылок, возле кооператива.
Зачем? Сама не знает. Что-то будет…
Пусть не признает, плюнет, обессудит
и пригвоздит, поставит в списке птичку,
но только даст мне верную отмычку:
о чем она рыдает и хлопочет —
никто не хочет жить и умереть не хочет.
Вагоны «Рим — Москва», «Москва —
Константинополь»
у этих вот платформ шлифуют сталь о сталь,
на запад и восток глядит проезжий Нобель,
глотая свой бифштекс, склоняя свой хрусталь.
Он глянул на меня у поздней электрички
и раскурил свою сигару «Боливар»,
а я отвел глаза по лени и привычке,
но в униженье я недолго горевал.
Когда вернется он, то что застанет дома —
народный трибунал иль тройку ВЧК?
Поэтому всегда легка его истома,
поэтому всегда тверда моя рука.