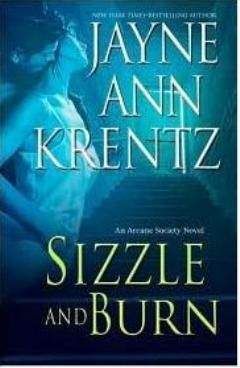Вступительная статья
Иосиф Бродский
Четверть века тому назад, в случайной застольной беседе кто-то — возможно то был я сам — окрестил Евгения Рейна «элегическим урбанистом». В те годы мы все были сильно снедаемы тоской по точным формулировкам, и определение это пришлось присутствующим — как впоследствии и самому Рейну — по вкусу. Теперь кажущееся невнятным и расплывчатым, тогда оно производило впечатление апофеоза критической мысли и пленяло своим наукообразием. Это объяснялось как положением в отечественной литературной критике — плачевным всегда, а в те годы в особенности — так и общим состоянием умов, т. е. полной атрофией способности называть вещи своим именами. Словосочетание «элегический урбанист» было продуктом этого климата и очерчивало некую мысленную территорию, дотоле неисследованную, но, в принципе, умопостигаемую: знакомый эпитет как бы одомашнивал менее известное, пахнущее — тогда — «современностью» существительное.
Всякая комбинация подобного рода (например, «метафорический кубизм» применительно к живописи Шагала или «социалистический реализм» применительно к макулатуре) как правило свидетельствует об определенной недостаточности употребляемого существительного. В данном случае, однако, присутствие прилагательного было продиктовано скорее явной избыточностью определяемого объекта. Главным — и возможно единственным — достоинством определения «элегический урбанист» был ощущение контраста между составлявшими его элементами, расширявшего вышеупомянутую неисследованную территорию. Тем не менее, словосочетание это было скорее наброском личности поэта нежели определением, действительно соотносимым с метафорическим радиусом или с метафизическим вектором его творчества.
Определение, по определению, ограничительно; метафора, по определению, расширительна. Мысль о мире, опять-таки по определению, центробежна. То же самое относится к языку вообще, к любому слову, употребленному минимум дважды: значение его расширяется. Но именно потому что поэзия не поддается категоризации, определения и имеют право на существование; будь это иначе, поэзия бы не существовала. В этом смысле, «элегический урбанист» не хуже любого иного. Воспользуемся же им хотя бы временно не потому, что оно адекватно личности и масштабу творчества Рейна, но потому что в нем звучит некое эхо ноты, взятой этим поэтом четверть века назад, и различается его внешний — тех лет — физический облик: воспользуемся меньшим для описания большего. Другого выбора у нас нет.
Как по жанровой принадлежности, так и по преобладающей тональности большинства его стихотворений, Евгений Рейн безусловно элегик. Элегия — жанр ретроспективный и в поэзии пожалуй наиболее распространенный. Причиной тому отчасти свойственное любому человеческому существу ощущение, что бытие обретает статус реальности главным образом постфактум, отчасти — тот факт, что самое движение пера по бумаге есть, говоря хронологически, процесс ретроспективный. В этом смысле все сущее на бумаге, включая утопию, есть элегия. На бессознательном уровне это ощущение и этот факт оборачиваются у поэта повышенным аппетитом к глагольным формам прошедшего времени, любовью к букве «л» (с которой самый глагол «любить» начинается, не говоря — кончается). Потому нет более естественного начала для стихотворения, чем пушкинское «Я вас любил…», как и нет более естественного окончания, чем рейновское «Было, были, был, был, был», в котором смешиваются предсмертное бульканье стариковского горла с монголо-футуристическим «дыр-бул-щер». Последнее обстоятельство указывает на то, что мы имеем дело с элегиком современным — тем самым урбанистом! — с поэтом весьма обширной генеалогии, пропорциональной судьбе русского стихотворного языка за три столетия существования в этом языке авторской (в отличии от фольклорной) литературы.
При всей своей увлекательности, рассуждения о влияниях и истоках в творчестве того или иного поэта — особенно на нынешнем уровне развития стихотворной речи — оборачиваются по существу подменой осознания того, что этим поэтом сказано. На подмену эту критик идет тем охотнее, чем некомфортабельней (говоря мягко) и трагичней (говоря жестко) оказывается содержание сказанного. Рейн не избег уже и не избегнет этой участи впоследствии. Поэтому мы позволим себе здесь не предаваться подобным экскурсам, обессмысливаемым обширностью вышеупомянутой генеалогии, огромностью вобранного. Ко времени появления на литературной сцене того поколения, к которому принадлежит Рейн, русской поэзии было, если считать начиная с «Поездки на остров Любви», уже без малого триста лет. Оправданный еще столетие назад поиск фигур, имеющих ключевое значение для развития и становления поэта, теряет в XX веке прикладной смысл не столько даже из-за перенаселенности отечественной словесности, сколько из-за сильно возросшего количества факторов, традиционно полагавшихся побочными, но на деле оказывающихся решающими. Сюда можно отнести переводную литературу (поэзию в частности), кинематограф, радио, прессу, граммофон: иной мотивчик привязывается сильней, чем самая настойчивая октава или терца-рима, и гипнотизирует покрепче зауми. Для творчества Рейна — на мой взгляд, метрически самого одаренного русского поэта второй половины XX века — каденции советской легкой музыки 30-х и 40-х годов имели ничуть не меньшее — если не большее — значение, чем технические достижения Хлебникова, Крученых, Заболоцкого, Сельвинского, Вас. Каменского или — чем консерватизм Сологуба. Во всяком случае, если возводить пантеон рейновского метрического подсознания, более заполненного хореями, чем ямбом, то, наряду с вышеперечисленными, голосу Вадима Козина — вернее, заевшей пластинке с его голосом — будет в нем принадлежать почетное место.
Стихи растут из сора, и Ахматовская формула могла бы стать эпиграфом к этому сборнику Евгения Рейна с неменьшим успехом, чем ко всем прочим. Сор этот включает в себя решительно все, с чем человек сталкивается, от чего отталкивается, на что обращает внимание. Сор это — не только его физический — зрительный, осязательный, обоняемый и акустический опыт; это также опыт пережитого, избыточного, недополученного, принятого на веру, забытого, преданного, знакомого только понаслышке; это также опыт прочитанного. Стихосложение на сегодняшний день по-русски, само по себе, есть «одна великолепная» (часто неуместная и неуклюжая) цитата. В определенном смысле, поэзия на сегодняшний день и сама есть элегия; каждая почти строка, хочет того тот или иной автор или не хочет (хуже, если не хочет) аллюзивна, ретроспективна. В отличие от большинства своих современников, Рейн к сору своих стихотворений, к сору своей жизни относится с той замечательной смесью отвращения и благоговения, которая выдает в нем не столько даже реалиста или натуралиста, сколько именно метафизика, или, во всяком случае, индивидуума, инстинктивно ощущающего, что отношения между вещами этого мира суть эхо или подстрочный — подножный — перевод зависимостей, существующих в мире бесконечности. И внимание, и сентимент Рейна к «сору»
тем уже оправданы, что сор конечен. Не так уж важно, узнает ли себя читатель в том, что этот поэт говорит о жизни. Важно, что поэт узнает себя в соре, из которого растут его стихи; не менее важно и то, что и сама бесконечность, реши она облечься в плоть и в кровь, в стихах этих и в поэте этом себя несомненно узнает. (В конечном счете, поэт и есть бесконечность, облекшаяся в плоть и кровь.)
Рейн — элегик, но элегик трагический. Главная его тема — конец вещей, конец, говоря шире, дорогого для него — или, по крайней мере, приемлемого — миропорядка. Воплощением последнего в стихах Рейна служит город, в котором он вырос, героиня его любовной лирики 60–70-х годов, переменившая, говоря языком каторжан прошлого века, участь, дружеский круг той же датировки, образовывавший тогда, по слову Ахматовой, «волшебный хор» и потерявший с ее смертью свой купол. В отличие от обычного у элегиков драматического эффекта, сопутствующего крушению мира или мифа, в отличие от элиотовского «Так кончается мир (Так кончается мир / Так кончается мир, / Не с грохотом, но со всхлипом», гибель миропорядка у Рейна сопровождается пошленьким мотивчиком, шлягером тех самых тридцатых или сороковых годов, чью тональность и эстетику стихотворение Рейна, как правило, воспроизводит то метрическим эквивалентом синкопы, то выбором детали. Более того, гибель миропорядка у этого поэта не единовременна, но постепенна. Рейн — поэт эрозии, распада — человеческих отношений, нравственных категорий, исторических связей и зависимостей, любого двучлена, включая ядерный, — и стихотворение его, подобное крутящейся черной пластике, — единственная доступная этому автору форма мутации, о чем прежде всего свидетельствуют его ассонансные рифмы. В довершение всего, поэт этот чрезвычайно вещественен. Стандартное стихотворение Рейна на 80 % состоит из существительных и имен собственных, равноценных в его сознании, как, впрочем, и в национальном опыте, существительным. Оставшиеся 20 % — глаголы, наречия; менее всего — прилагательные. В результате у читателя зачастую складывается ощущение, что предметом элегии оказывается сам язык, самые части речи, как бы освещенные садящимся солнцем прошедшего времени и отбрасывающие поэтому в настоящее длинную тень, задевающую будущее.