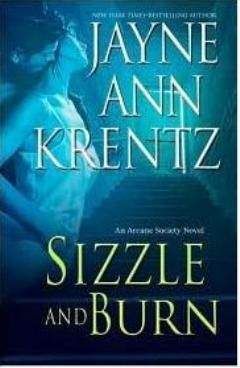Русской поэзии всегда не хватало времени — как, впрочем, и места. Отсюда ее интенсивность и надрывность — чтоб не сказать «истеричность». Созданное в существовавших параметрах — под сенью Дамоклова меча — за последние сто лет необычайно, но слишком часто окрашено комплексом — «сейчас или никогда!». Изуродованность поэтической судьбы стала у нас не меньшей нормой, чем ее прерванность, и поэт — даже начинающий — воспринимает себя и трактуется аудиторией в драматическом ключе. От него ожидается не сдержанность, а фальцет, не мудрость, а ирония или, в лучшем случае, искренность. Это — немного, и хотелось бы надеяться, что положение дел переменится; и, хотелось бы, чтобы перемена эта началась немедленно, с Рейна. Именно поэтому хочется положить ему на стол Вергилия или Проперция. Овидием он уже был, Катуллом — тоже. Трагический удел им — на бумаге и во плоти — надо надеяться, исчерпан. Что до Горация, то после Ахматовой на эти лавры претендовать у нас некому и нельзя. Но на новые вергилиевы эклоги или элегии Проперция сил у Рейна хватить может и должно. Человек, живущий в империи, тем более — в разваливающейся, не много потеряет, отождествив себя с теми, кто, в сходных обстоятельствах, две тысячи лет назад, не позволил себе впасть в зависимость от творящегося вокруг, и чья речь была тверда. Последнего, впрочем, Рейну, чей голос зазвучал и не пресекся в эпоху имперского окостенения, не занимать.
Пусть автор не посетует на вышеизложенные пожелания. Фантазии вроде этой естественны при чтении собранных здесь стихотворений — при чтении с другой стороны земли. Пишущему это предисловие представляется, что опыт пережитого, накопленный в этих стихотворениях, может разрешиться только преодолением биографии и обретением тональности, родственной тональности ахматовских «Северных элегий». Более того, пишущий это предисловие должен признаться, что он предается этим фантазиям не только на счет Рейна, но и на свой собственный. Это объясняется не столько тем, что потерянный рай Рейна как две капли воды похож на потерянный рай автора предисловия, с только сходством его и рейновского рая обретаемого. Если он, этот рай, существует, то существует и возможность того, что автор этой книги и автор предисловия к ней встретятся: преодолев свои биографии. Если нет, то автор предисловия останется во всяком случае благодарен судьбе за то, что ему удалось на этом свете свидеться с автором этих стихотворений под одной обложкой. Это немало. Их, стихотворений этих, физическое соседство с текстом этого предисловия является если и не торжеством справедливости, то, во всяком случае, внятной метафорой их неотделимости — на протяжении более чем в четверть века — от сознания автора этого предисловия. То, что их разделяет, — менее, чем страница.
Иосиф Бродский
«Окно на первом этаже над Невкой…»
Окно на первом этаже над Невкой,
трамвай гремит на вираже возле мечети.
Я постучу тебе в стекло монеткой,
орел и решка — вот и все на свете.
Я подходил и видел через щелку,
как тень вразлет на потолке скользила,
все позабыл, лишь нитку да иголку
припоминаю в доме у залива.
Все ниже, ниже абажур спускался,
потом двенадцать за стеной било,
и пестрый кот приятельски ласкался,
а ты все шила. Как ты долго шила!
Еще дрожит под сквозняком рама,
еще шипит замолкшая пластинка,
но нет будильника, а подниматься рано…
И ночь сама примерка и блондинка.
Закат над широкой рекою
И город на том берегу
Исполнены жизнью такою,
Что я объяснить не могу.
Пешком возвращаясь с прогулки,
Гляжу на огни и дома,
Но ключик от этой шкатулки
Найти не хватает ума.
Подумать — Васильевский остров
Так близко — достанешь рукой!
Но, скрытен, как будто подросток,
Он что-то таит за рекой.
И желтое небо заката
Тревожно, и так же почти
Неясным волненьем объята
Душа на обратном пути.
Но ведь неспроста, не впустую
Я с этим живу и умру;
Какую-то тайну простую
Я чувствую здесь на ветру.
Мелькают трамвайные числа
У площади на вираже.
Не знаю названья и смысла,
Но что-то понятно уже.
Четыре трубы теплостанции
И мост над Фонтанкой моей —
Вот родина, вот непристрастная
Картина, что прочих милей.
Как рад я — мы живы, не умерли,
Лишь лаком покрылись седым.
Какие знакомые сумерки,
Звоночек над рынком Сенным.
Теперь уже поздно, бессмысленно
Рыдать у тебя на груди;
Но вечно я слушал — не слышно ли
Твоей материнской любви?
Не слышно ли пения жалкого?
Что прочим о стенку горох?
Не видно ль хранителя-ангела
На трубах твоих четырех?
Родные, от века привычные,
Ваш голос и суд справедлив.
Сыграйте мне, трубы кирпичные,
Какой-нибудь старый мотив.
На мне пальто из пестренького твидика —
хорошее, германское пальто.
Глобальная имперская политика
четыре года думала про то,
как мне урон недавний компенсировать.
Про то решали Рузвельт и Черчилль.
Как одарить меня, сиротку, сирого,
проект им наш Верховный начертил.
Четыре года бились танки вермахта,
люфтваффе разгорались в облаках,
правительств по одной Европе свергнуто
поболее, чем пальцев на руках.
Тонул конвой на севере Атлантики,
и лис пустыни[1] заметал следы,
стратеги прозорливые и тактики
устраивали канны и котлы.
Но, главное, но главное, но главное —
я был красноармейцами прикрыт.
И вот стою, на мне пальтишко справное,
уже полгода я одет и сыт.
Стою я в переулке Колокольниковом,
смотался я с уроков и смеюсь,
и говорю с румяным подполковником,
и он мне дарит пряжку «Gott mit uns»[2].
В костюме васильковом, в жилете голубом
С Сережей Васюковым (о нем скажу потом)
На улице эстонской, у баров и кафе
С прическою тифозной на смутной голове
Он шел в начале лета пятнадцать лет назад,
Заглядываясь в бледнопылающий закат.
Чуть сзади шла подруга (о ней скажу сейчас).
Карабкалась по трубам, что капля в ватерпас,
Над мелким горизонтом янтарная луна.
И в хаки гарнизонном, чернява и бледна,
Пока еще невеста, хозяйка дел и слов,
Всезнайка и невеста, и первая любовь;
Ступая резковато на острых каблуках,
Ты здесь прошла когда-то, изрядно обругав
Сережу Васюкова за пошлый вкус в кино…
…В костюме васильковом! Пятнадцать лет! Давно!
Мы шли втроем по Виру. Теперь иду один,
Но вижу ту квартиру, те этикетки вин.
…На Каннском фестивале Сережа Васюков
Стоит на пьедестале из премий и венков.
Средь блочного комфорта окраинной Москвы
Горит ее конфорка, разбросаны носки.
Играют в детской дети, чья чужеродна кровь.
А Таллинн на рассвете как первая любовь
Среди бессонной ночи пятнадцать лет назад…
Но жизнь еще короче и сшита наугад!
ПОДПИСЬ К РАЗОРВАННОМУ ПОРТРЕТУ
Глядя на краны, речные трамваи,
Парусники, сухогрузы, моторки,
Я и тебя и тебя вспоминаю,
Помню, как стало легко без мотовки,
Лгуньи, притворщицы, неженки, злюки,
Преобразившей Васильевский остров
В землю свиданья и гавань разлуки.
Вздох облегченья и бешенства воздух…
Годы тебя не украсили тенью,
Алой помадой по розовой коже.
Я тебя помню в слезах нетерпенья.
О, не меняйся! И сам я такой же!
Я с высоты этой многоэтажной
Вижу не только залив и заводы,
Мне открывается хронос протяжный
И выставляет ушедшие годы.
Вижу я комнат чудное убранство:
Фотопортреты, букеты, флаконы.
Все, что мы делали, было напрасно —
Нам не оплатят ни дни, ни прогоны.
Глядя отсюда, не жаль позолоты
Зимнему дню, что смеркается рано.
Выжили только одни разговоры,
Словно за пазухой у Эккермана.
Как ты похожа лицом-циферблатом,
Прыткая муза истории Клио,
На эту девочку с вычурным бантом,
Жившую столь исступленно и криво
В скомканном времени, в доме нечистом,
В неразберихе надсады и дрожи.
Ключик полночный, кольцо с аметистом,
Туфли единственные, и все же
Даже вино, что всегда наготове,
Даже с гусиною кожицей эрос
Предпочитала законной любови,
Вечно впадая то в ярость, то в ересь.
Если вглядеться в последнюю темень,
Свет ночника вырывает из мрака
Бешеной нежности высшую степень, —
В жизни, как в письмах, помарки с размаха.