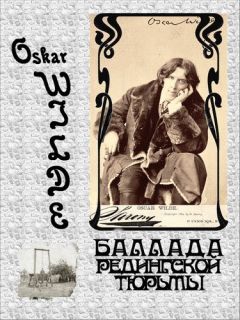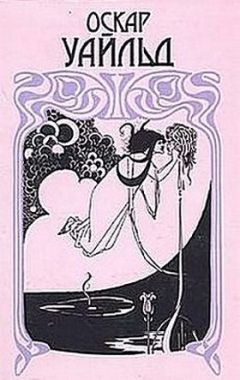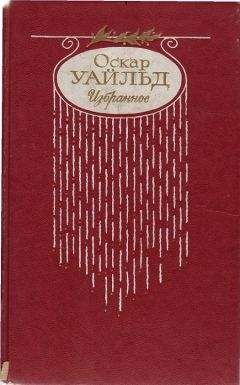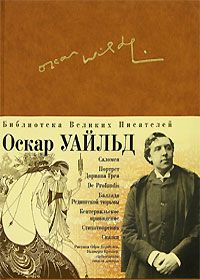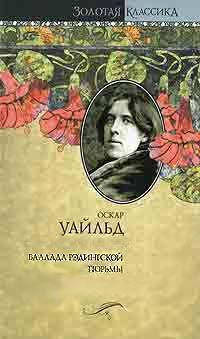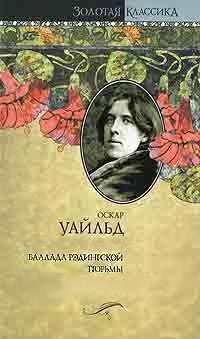IV
В день казни заперта была
Часовня: в этот час
То ль сердцу баял капеллан,
Что билось через раз,
То ль Нечто взор его таил
Не для досужих глаз.
Лишь в полдень колокольный звон
Смог двери отворить,
И мы, покинув клетки, вниз
Во всю помчались прыть,
Чтоб, окунувшись в Общий Ад,
Свой Личный Ад избыть.
И вышли мы на Божий свет
Как прежде, только вот
Глядь — этот бел, как полотно,
Сер, как пергамент, тот,
Но все с похожею тоской
Глядят на небосвод.
Я не встречал столь жадный взор,
С каким глядели тут,
На то, что небом мы зовем,
На голубой лоскут,
Где парусники облаков,
Как по морю плывут.
Но были среди нас и те,
Что шли, потупив взор,
И знали — больше впору им
И петля, и позор:
Он отнял жизнь, любя, — они ж,
Лишь походя, как мор.
Тот согрешил вдвойне, кто труп
Для боли пробудил,
Изъял из гробовых пелен
И снова кровь пролил,
Но все деяния свои
Он всуе совершил.
* * *
В нарядах шутовских, толпясь,
Как стадо обезьян,
Брели мы по двору кругом,
По битуму скользя,
Брели мы по двору кругом —
Нам Иначе нельзя.
Брели мы по двору кругом,
А мозг перебирал
Видений рой, в наш праздный ум
Ворвавшихся, как шквал,
Где Ужас был поводырем,
А в спину Страх толкал.
* * *
Напыщенные Стражи нас,
Как гурт свиней, пасли,
Нарядны, словно с торжества
Какого-то пришли,
Вот только башмаки их цвет
Известки обрели.
Могила — бледное пятно
Над прежнею дырой,
Среди песка и грязи, под
Тюремною стеной,
А вместо гробовых пелен
Известки тонкий слой
Да, этот гробовой покров
Лишь избранным сужден…
Нагим — для срама — но в цепях
Был в яму сброшен он
Гореть, — так некогда в огне
Был Некто вознесен.
Жар извести в его костяк,
Как алчный червь, проник,
Он объедал все кости днем,
А ночью — плоть на них,
Он ел посменно кости, плоть,
Лишь сердце — каждый миг.
* * *
Три года будет сир и наг
Бесплодный лоскуток
Земли; не примет он семян
И ни один росток
Не взглянет кротко в небеса,
На розовый восток.
Убийцы плоть! Считалось, нет
Для стебля яда злей.
Ложь! Добрая земля добрей
Людей, и тут красней
Оттенок был бы красных роз,
А белых роз — белей.
Из сердца бил бы красный цвет,
А красный цвет — из уст;
Кто знает, что за чудеса
Явит нам Иисус,
С тех пор, как посох вдруг расцвел
Пред Папою, как куст.[1]
* * *
Здесь розам этим не цвести,
Пробив тюремный смрад,
Где только галька и песок
Нам скрашивают ад:
И значит, не уймет тоски
Цветочный аромат.
И лепесток за лепестком
Цветам не облететь,
Мешаясь с грязью и песком
Затем, чтобы успеть
Напомнить нам, что Божий Сын
За Всех пошел на смерть.
* * *
Тюремной жуткою стеной
Он окружен опять,
И дух его в цепях ли, без,
Не станет в ночь блуждать,
И, лежа в прОклятой замле,
Не в силах возроптать.
Несчастный! - он обрел покой,
И в мире тишины
Ничто — безумье или страх —
Не отравляет сны
В Стране Безвременья, где нет
Ни Солнца, ни Луны.
* * *
Он был повешен, будто зверь,
И реквием звонить
Не стали, чтоб его душе
Печали утолить,
Но в спешке сняли, чтоб в норе
По-воровски сокрыть.
Сорвав тряпье, швырнув нагим
Под нож мушиных жвал,
Глумясь, над вздувшимся рубцом,
Что горло окружал,
Пиная извести покров,
В котором он лежал.
Над ним священник не прочел
Последнее «Прости»;
Крестом, дарованным Христом,
Не осенил в горсти,
А он ведь был из тех, кого
Христос пришел спасти.
Все кончено. Он рубежа
Последнего достиг,
И чаша скорби вобрала
Избыток слез чужих,
Отверженных, поскольку скорбь
Все достоянье их.
Не знаю верно, прав Закон
Иль крив, но все, кто здесь
Гниет, те знают назубок:
У тюрем стены есть
И то, что день здесь словно год,
В котором дней не счесть.
Но мне знаком людской Закон,
Возникший в грустный век,
(Когда у брата отнял жизнь
Ни зА что Человек);
И розность плевел и зерна
Не видя, как на грех.
Но знаю я, (жаль, что не все),
Ведь истина проста:
Все тюрьмы строит сам Позор
Из кирпичей Стыда,
Где Зло окружено стеной,
Застившей взор Христа.
Решетки Солнца лик слепят,
Марают лик Луны;
Они таят тюремный ад,
Где муки столь страшны,
Что плотницкий иль Божий сын
Их видеть не должны.
* * *
Ведь подлость, как гнилой сорняк,
В тюрьме пышней цветет,
А добродетель — коль была —
И чахнет, и гниет,
Здесь Безысходность — зоркий Страж
У Мук тугих ворот.
Здесь мор и глад, здесь стар и млад,
И въяве, и во сне
Скулят, а кнут и плеть на труд
Ведут; а кто во мгле
Еще не сбрендил, тот вполне
Окостенел во зле.
Каморки здесь темны и днесь
Отхожих мест грязней,
И дышит в клеть зловоньем Смерть
Из окон и щелей;
И только Похоть здесь цветет
Из всех живых страстей.
Вода, которую мы пьем,
Мутна и солона,
Хлеб мелом на зубах хрустит;
И мы лежим без сна,
Пока Сон бродит, бог весть, где,
Тасуя Времена.
* * *
Не Голод с Жаждой: змей клубок
Нутро нам бередит,
Не стол и кров волнуют кровь
А мука впереди:
Ведь камню, вырытому днем,
В ночь — сердцем стать в груди.
Настроят сумерки сердца
На сумеречный лад,
Мы рвем пеньку и рычаги,
Храня в себе свой Ад,
И тишина для нас звенит
Тревожней, чем набат.
Не тронет слух нам речи звук
Сочувственно-живой,
В глазок, сквозь мрак, вперяет зрак
Безжалостный конвой,
И день за днем гнием живьем
Мы телом и душой.
Мы звенья жизненной цепи
Прожгли до одного,
Кто — плачет, кто — кричит, а кто —
Не молвит ничего;
Но камень в сердце сокрушит
Лишь Промысел Его.
* * *
Блажен, кто сердцем сокрушен…
Разбитому, — ему
Сосудом с миром для Христа
Служить, как и тому,
Что с драгоценным нардом был
У Симона[2] в дому.
Лишь тот, кто сердцем сокрушен,
Прощенье обретет,
Он, сердце расколов в груди,
С Души Грехи стряхнет,
И в сердце только через скол
Христос отыщет вход.
* * *
Лежит со вздутым горлом он
И, выпучив глаза,
Ждет рук Разбойника с креста
Забравших в небеса:
Осколки сердца соберет
Лишь Божия слеза.
Судья ему отмерил срок
Лишь три недели жить,
Лишь три недели, чтоб раздор
В душе своей смирить,
И с рук своих, державших нож,
Всю кровь до капли смыть.
Слезой кровавой кровь с руки,
Сжимавшей сталь, смывать…
Лишь кровь способна кровь стирать,
А слезы — исцелять;
И лишь Христу по силам смыть,
Снять Каина печать.