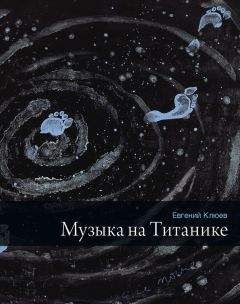Ознакомительная версия.
Переезд
1
Как век минувший протекал,
я сосчитаю по тюкам,
я сосчитаю по тюкам.
Вот насчитаю сто тюков
(за исключеньем пустяков)
– и был таков.
А что шаги мои легки —
так и тюки мои легки,
мне всё легко, мне всё с руки:
легко – судачить о былом,
легко – проститься за столом,
легко – заплакать за углом,
притормозить, умерить прыть
и в путь не отправляться впредь,
легко – под ношей умереть,
легко – разжавши кулаки,
на волю отпустить тюки,
мои воздушные тюки.
2
Ты, вот что, погоди со всем прощаться —
тут есть заначка: две щепотки счастья
на всякий случай, на… авось когда
понадобится двум богатым нищим —
кинь их в коробочку с отсутствующим днищем,
пока в ней не захлюпала вода.
Да, затонули все твои суда,
да, сгинули без всякого следа
твои слова, и бессловесен омут,
а вот коробочка – она всё на плаву,
и, значит, ты живёшь, и я живу,
и две щепотки счастья не утонут.
Пушинки не умеют намокать —
зато они умеют намекать,
что невесомость – это попросту несомость:
несомость ветром, метром и водой,
весёлою лошадкою гнедой
по имени Словесность или Совесть.
3
Тут у нас сумки с одной и с другой заграницей,
тут, в сундуке, упакован тяжёлый твой вздох.
А в этой баночке… в ней не скажу, что хранится,
ибо хранится в ней трах-тибидох-тибидох.
Мама и папа ушли на какой-то всевобуч,
бабушка в гости уехала в город Моздок.
Пусто на свете – один только я и Хоттабыч,
я и Хоттабыч, и трах-тибидох-тибидох.
Сколько тому уже? Целых полвека, пожалуй:
было тепло на душе, да теперь холодок…
Думали, спать ухожу, а я нёс под пижамой
смуту, надежду и трах-тибидох-тибидох.
Так и запомнилось: в окнах парад снегопада,
а у постели выстраиваются в рядок
лето, чудачество, чудо – чего тебе, чадо,
неба со сливками? – Трах-тибидох-тибидох!
Так и запомнилось – и ничего не поправишь
в чередовании слов, городов и эпох.
Тут у нас баночка, в ней у нас остров сокровищ…
трах-тибидох-тибидох-тибидох-тибидох!
4
А некий мелкий бес всё ходит по пятам,
и счёт под нос суёт, и требует обола:
мол, дорогой Вы мой, зачем Вам это там?
Вам незачем и здесь всё это было!
Он прав, и прав, и прав – и сколько б ни петлял
мой полоумный ум и ни давал осечек,
а так оно и есть… но этот вот футляр,
но этот вот плетёный туесочек,
но этот вот узор, но этот вот восторг,
но этот (от чего забыл) остаток,
и этот вот пустяк, чья родина Мосторг —
минувший век, конец семидесятых,
и эта вот пора, и эта вот мура,
и эта вот вчера разбитая вещица,
контейнер-полтора чудесного добра,
с которым я готов и в мир иной тащиться, —
его не трогай, бес, оно с других небес,
я соберу обоз и к выходным уеду,
а ты за остальным зайди попозже, бес:
когда получится – во вторник или в среду.
5
Три десятка чемоданов, полных всяческих молитв,
полных всяческих разборок с небесами или нет,
надо б выбросить на свалку – злая память не велит:
говорит, всё не напрасно, всё получишь, что просил.
А когда уже получишь, злая память говорит,
будешь принимать по списку, будешь брать на карандаш
эту, стало быть, красотку, этот город, этот вид
из окна… ну и вот эти – блага, льготы, как их там.
А иначе, сам подумай, злая память говорит,
как ты выяснишь, голубчик, где твоё, где не твоё:
три десятка чемоданов, каждый наглухо закрыт —
и захочешь да не вспомнишь, и потом не доказать.
Впрочем, всё, о чём мы просим, – напоследок говорит
злая память – записали на высоких облаках:
так что выброси, пожалуй, и не слушай этот бред,
три десятка чемоданов, ну а я тогда пошла.
6
Четыре рулона тяжёлых обид
на то, что дожди, и туман, и знобит,
что кофе невкусный, что сахара нет,
что скорость не та и висит интернет;
четыре рулона тяжёлых обид
на то, что отвергнут, оставлен, забыт,
что брошен один, что с собою не взят
и что не вернуться до мая грозят;
четыре рулона тяжёлых обид
на то, что изранен – и даже убит,
и даже уже похоронен вдали
от всех, кого знал, и они не пришли;
четыре рулона тяжёлых обид
на стан твой, на весь твой задумчивый вид,
на злые слова, на себя самого —
не весят, как выяснилось, ни-че-го.
7
Одну надежду на двоих
стою держу в руках своих:
у ней просрочены все сроки,
ей больше не подняться вверх —
она подобна новостройке,
что заморожена навек.
Одну надежду на двоих
стою держу в руках своих —
ей не придали сил повторы,
наоборот, пошли во вред —
ей нету подходящей тары,
ей, в общем, даже места нет.
Одну надежду на двоих
стою держу в руках своих —
последнюю надежду в мире
из лет чужих и черновых.
Надеявшихся нет в помине
и даже нет уже в живых.
Одну надежду на двоих
стою держу в руках своих
и, видимо, возьму с собою
в другую жизнь в другом краю,
где, может быть, другие двое
обманут ею жизнь свою.
8
Вот так и уйти – беспорядка в себе не заметив,
а просто сказав: мол, такое моё естество.
Но что же мне делать со связкою старых приветов
забыл от кого (и неважно уже, от кого),
в какой их сосуд… нет, в какой их ларец… нет, в какой их
ковчег положить и какой завязать бечевой —
легко шелестящие тени друзей и знакомых,
своим шелестеньем не требующие ничего?
Мне главное – их не забыть, а уж там, где я буду…
и даже, скорее, не так: где я буду таков,
я стану их клеить – на мебель, на дверь, на посуду,
я стану кормить ими бабочек и мотыльков,
я стану их класть между рамами и под подушку,
я стану заваривать в чай их – мне хватит с лихвой,
чтоб вылечить сердце, сосуды, простуды, одышку
и прочие хвори, и самую главную хворь.
А что там за хворь тебя мучает, старый зануда,
поймём уже после – отправившись, стало быть, в путь…
Тоска по тому, что уже не вернуть и не надо,
поскольку уже ничего никогда не вернуть.
9
Две алмазные слезинки
в две плетёные корзинки
я который день пакую —
и не ведаю покою,
а бумага, намокая,
снова дряблая такая,
будто тут не две слезинки,
будто дождик зарядил —
или в эти вот корзинки,
в перевернутый их купол,
не всего лишь кот наплакал,
а наплакал крокодил.
Я не буду в новой жизни
приближаться к старой бездне —
мне слезинки не за этим
и корзинки не за этим.
А зачем… да кто ж вам скажет?
Скажут: нажит – значит нажит
скарб, и каждую оплошность
до последней запятой,
как, вот, каждую слезинку,
надо паковать в корзинку,
чтобы старую жилплощадь
сдать счастливой и пустой.
10
А что-то остаётся на потом,
всё время остаётся на потом,
когда уже совсем покинут дом,
когда припоминается с трудом,
где тумбочка стояла, где кровать,
и больше нет желанья рифмовать
ни с чем на свете настоящий миг,
он сбился с ног, он наг и одинок,
и он стоит перед тобой как знак —
конечно, вопросительный, других
тебе не будет, разве что когда
ты всё уже забудешь и начнёшь
на новом месте что-нибудь ещё:
не жизнь – так пьеску, сказку, эпопе…
«И как-то не осталось вдруг размера…»
И как-то не осталось вдруг размера —
куда вписать оставшегося мира
и снег, и грех, и прах предновогодний,
развеиваемый над Родхусплбсен
кометами, ракетами… согласен,
так легче, и быстрее, и нарядней.
Вот разве только тактовик – нет, тоник,
нет, тоник не размер… тогда титаник —
нет, тоже не размер, хотя, конечно,
всё тут у нас размеры… разумеры,
а нб небе косматые химеры
воркуют оглушительно и нежно.
Так значит, разумеры: хочешь дольник,
или будильник, или понедельник —
так, чтобы вдруг проснуться по-другому,
как прежде никогда не просыпался:
на палец водки, сока на полпальца —
причём под музыку… желательно «Богему».
А в общем, пусть всё пляшет – или плачет,
как хочет, старый год идёт на вычет —
три, два, один – и дальше только Бог,
размеры кончились, возок летит по ямам,
но сердце продолжает биться ямбом:
раз-два, раз-два, второй ударный слог.
«Приходит, значит, новый вдруг…»
Приходит, значит, новый вдруг —
с вопросом, для чего я
линейкой измеряю звук…
«Взыграло речевое, —
я говорю, его кивок
встречая обалдело. —
Но вообще я так привык,
не Ваше дело.
А что я заперт в четырёх
стенах, так эту утку
пустил какой-то пустобрёх,
что очень-очень гадко, —
быть может, здесь вчера была
и за столом сидела
среди бумаг и барахла… —
не Ваше дело.
Ну, не сидела – так и что ж…
её приходы редки,
зато зашёл под вечер дождь —
Вы ведь читали сводки?
А вот о чём был разговор,
мы знаем только двое,
лишь он и я… и вот с тех пор
взыграло – речевое».
«Ты замри, моя жизнь, замри…»
Ознакомительная версия.