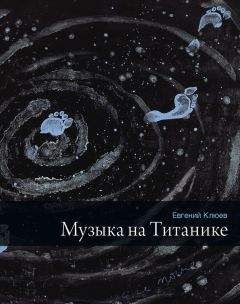Ознакомительная версия.
Аттриция
«И как-то не осталось вдруг размера…»
И как-то не осталось вдруг размера —
куда вписать оставшегося мира
и снег, и грех, и прах предновогодний,
развеиваемый над Родхусплбсен
кометами, ракетами… согласен,
так легче, и быстрее, и нарядней.
Вот разве только тактовик – нет, тоник,
нет, тоник не размер… тогда титаник —
нет, тоже не размер, хотя, конечно,
всё тут у нас размеры… разумеры,
а нб небе косматые химеры
воркуют оглушительно и нежно.
Так значит, разумеры: хочешь дольник,
или будильник, или понедельник —
так, чтобы вдруг проснуться по-другому,
как прежде никогда не просыпался:
на палец водки, сока на полпальца —
причём под музыку… желательно «Богему».
А в общем, пусть всё пляшет – или плачет,
как хочет, старый год идёт на вычет —
три, два, один – и дальше только Бог,
размеры кончились, возок летит по ямам,
но сердце продолжает биться ямбом:
раз-два, раз-два, второй ударный слог.
«Приходит, значит, новый вдруг…»
Приходит, значит, новый вдруг —
с вопросом, для чего я
линейкой измеряю звук…
«Взыграло речевое, —
я говорю, его кивок
встречая обалдело. —
Но вообще я так привык,
не Ваше дело.
А что я заперт в четырёх
стенах, так эту утку
пустил какой-то пустобрёх,
что очень-очень гадко, —
быть может, здесь вчера была
и за столом сидела
среди бумаг и барахла… —
не Ваше дело.
Ну, не сидела – так и что ж…
её приходы редки,
зато зашёл под вечер дождь —
Вы ведь читали сводки?
А вот о чём был разговор,
мы знаем только двое,
лишь он и я… и вот с тех пор
взыграло – речевое».
«Ты замри, моя жизнь, замри…»
Ты замри, моя жизнь, замри —
я замру, говорит, замру,
я замру до первой зари,
на ветру замру, на юру,
на бегу замру, на лету,
на снегу замру, стану лёд
и растаю, и в пустоту
превращусь, когда снег сойдёт!
И замрёт ведь, а я тогда —
рыбкой, стало быть, из пруда —
без труда напишу слова:
Копенгаген или Москва.
И не будет в них ни следа
Копенгагена и Москвы,
ибо всё это ерунда,
а пути ерунды кривы.
Но, конечно, настанет март —
это сразу за декабрём,
и тогда полетят за борт
вместе с разным другим старьём
все немые мои слова,
и взойдёт на дворе трава…
Отомрём еще, отомрём,
по тропе пойдём тропарём.
По причине отсутствия целей и средств отсутствия
я сижу на мели – с парой-тройкою слов, не боле,
но живу хорошо: вообще ничего не чувствуя,
кроме старой одной, отслужившей своё, любови.
Мы с ней просто друзья и встречаемся выпить рюмочку,
обсудить, что земно в нашей жизни и что небесно,
то есть, встав на обрыве, но не заходя за кромочку,
поглядеть в одну бездну… теперь уж мелкую бездну.
Мы с ней просто друзья – и знакомою бродим местностью:
там, где прежде смеялись, дурачились, танцевали…
Жалко, что я теперь не в ладу со своей словесностью —
и не знаю, как выразить эту беду словами.
Начинаю писать – как молиться, как делал исстари,
но отчаиваюсь на пороге, на первом «Отче…» —
и, пожалуй что, попрошу полкового писаря
написать за меня: у него получится чётче.
Извините, не узнал:
извините, много лет
никого не узнаю…
Извините, полный зал,
извините, яркий свет
плюс общительный сосед
с приставного, на краю.
Да конечно же, простил:
я прощаю всех вокруг,
я прощаю всё подряд!
А что сух… таков мой стиль,
Вы, конечно же, мне друг —
даже больше, виноват,
Вы, конечно же, мне брат!
Завтра я опять совру…
нет, сотру – оно верней —
этих слов круговорот.
Так и флюгер на ветру,
так и речка меж камней,
так и мельничка поёт.
«Из кое-как законченного дня…»
Из кое-как законченного дня
всего-то лишь и вышла у меня
одна строфа… но в маленькое поле
моей строфы я уместил, что мог:
с трубою дом и над трубой дымок,
немножко веры и немножко воли —
и всё хотел придумать заголо…
да мысль куда-то ветром унесло
и закружило там с листвой сухою,
и я тогда решил: пускай строфа
так и живёт на свете как строфа —
и три звезды сияют над строфою.
А лирических обновок,
лучше не проси их, ладно? —
огрызнусь, скажу: не вышло.
После стольких сразу правок
ничего уже не видно,
ничего уже не слышно.
После стольких сразу правок
ничего не опознбешь —
разве только заголовок…
Ничего не опознбешь,
остаётся тишина лишь
после стольких сразу правок.
Ни одной черты знакомой,
ни единого словечка
после стольких сразу правок.
Плачет старая привычка
да вздыхает старый навык:
ни одной черты знакомой!
А давно ли – бормотали,
чепуху на ус мотали,
малевали подмалёвок,
жили глупо и некстати…
всё пропало в результате
после стольких сразу правок.
Строй беспечных заготовок
на забывшемся наречьи
всё далече, всё короче.
После стольких сразу правок
с нами только междометье,
междуречье, междустрочье.
«Потихоньку уменьшается алфавит…»
Потихоньку уменьшается алфавит:
выпадают буквы —
буква «ф» давно уже норовит
потеряться вовсе,
только гласные нам ещё и верны —
в силу старой клятвы
накричаться вдоволь после войны,
лучезарный Спасе!
Записные книжки теряют вес
и теряют разум:
в них всё больше и больше теперь небес
и всё меньше спеси,
лучезарный Спасе, пусты уста,
и обычным фразам
не хватает резвости и хлыста,
лучезарный Спасе!
Ах, на чём говорить и с кем говорить,
как бывало раньше
и как, ясное дело, не будет впредь —
в чём ведь вся досада…
Хоть по-прежнему носятся там и здесь
полоумные почтальонши,
только букв не хватает уже: прочесть
имя адресата.
Но покуда остался клочок земли,
не напрасен поиск,
и не все мы ещё навсегда ушли
во свои свояси.
Доведём до конца этот страшный бой,
а уж после, после
мы ещё помычим, помолчим с тобой,
лучезарный Спасе.
«Если маленькие частности…»
Если маленькие частности
довести до полной честности,
всё равно не будет ясности —
просто меньше неизвестности.
Если маленькие честности
довести до полной лживости,
всё равно не будет страстности —
будет только больше живости.
Где налоговая ведомость
улетела со стола —
бело-розовая жимолость
невзначай произросла.
Где исчезнувшая видимость
наконец сдала права,
ослепительная живопись
распустила кружева.
«Что ж, per aspera ad astra!..»
Что ж, per aspera ad astra!
На глазах тускнеет люстра —
слишком явно, слишком быстро.
Видишь, вечные студенты
закрывают фолианты.
Возникают горизонты.
Безмятежное соседство
залпом переходит в братство —
в братство или в сумасбродство.
После солнечной латыни
в золотой пыли ладони.
Это навсегда отныне.
Улетает речь магистра,
уплывает френч магистра.
…Окончание семестра.
«Всё сходит на нет, свет сходит на нет, след сходит на нет…»
Всё сходит на нет, свет сходит на нет, след сходит на нет.
Лёд сходит на нет, лад сходит на нет, люд сходит на нет.
И старый блокнот который уж год вперёд не идёт,
а сходит на нет, и сходит на нет, и сходит на нет.
Но весь этот бред, который я, брат, вышагивал вброд —
лохмат и небрит, напялив берет, беспечный на вид —
о, весь этот бред, текучий сорит, горючий гибрид,
он так и влечёт, он так и течёт, он так и горит.
Он, наоборот, сильнее стократ, и пляшет Сократ —
и прячет секрет, и смысл его скрыт от нас навсегда.
Приходит закат, уходит закат, приходит восход,
и жизнь молода, и врёт без стыда, и сходит на да.
Клянусь, что я ещё возьмусь за ум:
начну питаться – чем там… наобум:
акридами и мёдом, духом, сеном,
устану быть бездомным и бессонным,
пройдёт моя любовь к трём апельсинам,
заметьте, что – не к одному, не к двум,
но и она пройдёт… какой бы ни
была нелепой, смелой и нелепой —
хоть вот со стороны, хоть вот под лупой,
откуда ни зайди и ни взгляни.
Один-то апельсин совсем смешной,
другой ещё смешнее, а уж третий —
смешной до слёз, и все они в карете,
в смешной карете катятся за мной,
и я люблю их больше всех на свете:
троих люблю – любовию одной.
И трижды предо мной одна трясина
волшебная, и ничего – за ней:
ах, знать… узнать бы – хоть на склоне дней,
кто учит нас любить три апельсина!
А с неба смех – высокий, лёгкий смех:
нет, дескать, милый, ничего для всех —
вот разве тайны да головоломки!
В чужие не заглядывай котомки:
там меч тупой да сломанный доспех —
пусть с ними разбираются потомки,
с них станется, а ты люби того,
кого тебе послало волшебство,
кого попало и кого придётся,
кого назначат Бог и Карло Гоцци.
Ознакомительная версия.