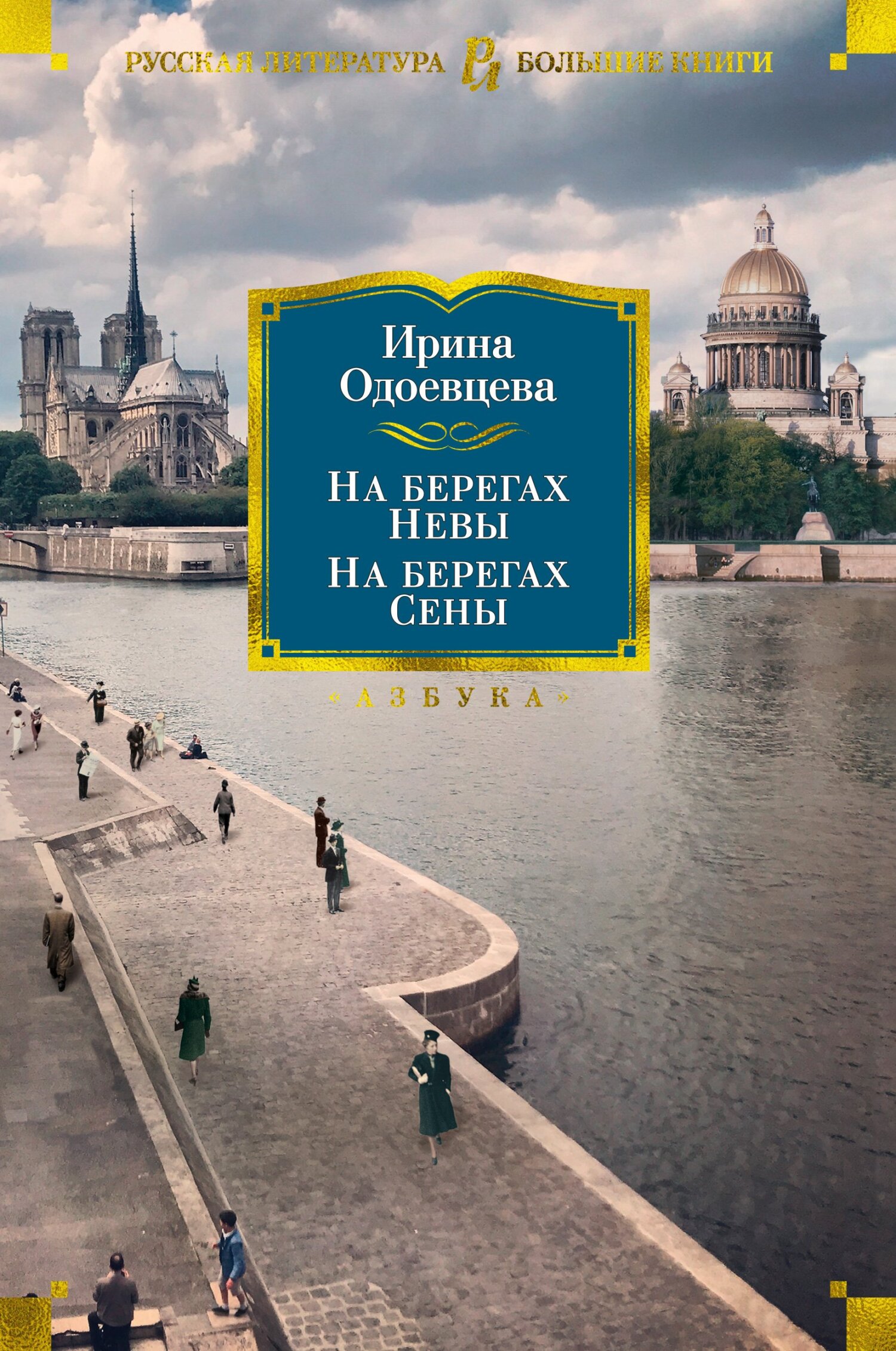На литературной карте Серебряного века Ирина Одоевцева, «маленькая поэтесса с большим бантом», как она себя называла, и любимая ученица Николая Гумилева, занимает особое место. Ее первый сборник «Двор чудес» (1922) стал заметным событием в литературной жизни и был дружно одобрен критикой. «…Чутье стиля в такой мере, как у Одоевцевой, – признак дарования очень крупного», – писал Владимир Пяст. И даже язвительный Лев Троцкий удостоил Одоевцеву своей похвалы, выделив «Двор чудес» среди «книжечек и книжонок»: «Очень, очень милые стихи». Однако известность пришла к ней еще раньше. На поэтических вечерах юная Одоевцева пользовалась большой популярностью и с блеском читала свои стихи, включая знаменитую «Балладу о толченом стекле». Ее сразу отметил Александр Блок, ею восхищались Корней Чуковский, Михаил Лозинский и Георгий Иванов. В 1922 году Ирина Одоевцева уехала из России и большую часть жизни провела во Франции, но в 1987 году вернулась на родину, где ей довелось увидеть свои книги изданными в СССР огромными тиражами. Помимо мемуарной прозы, творчество Одоевцевой включает несколько романов, переведенных на многие языки, а также семь поэтических сборников, ставших неотъемлемой частью русской поэзии ХХ века.
Лишь под утро, встречая зарю,
Расцветающую за окном,
Между полусознаньем и сном,
Я не больше пяти минут
Настоящая.
А потом —
Ничего не поделаешь тут —
День идет своим чередом,
Превращая меня в другую
Иль, точнее, в многих других
Анти-я, мне почти враждебных,
Анти-я, обманно волшебных,
Лженесносных – как много их!
До чего же они, до чего же
На меня совсем не похожи!
1975
«Тень пространства, времени тень…»
Тень пространства, времени тень,
День сегодняшний, день вчерашний,
Ну, конечно, и завтрашний день…
Я живу в поднебесьи, на башне,
Неуютно и тесно живу,
Не во сне, а впрямь, наяву,
Как во чреве кита Иона,
Без комфорта и без телефона,
Так, как жили во время оно,
А не в атомные года.
Прилетает ко мне иногда
Ведьма с Брокена для развлеченья,
Чтоб со мною писать стихи,
От безудержного вдохновенья
Превращать их в лесные мхи,
В мухоморы и лопухи,
В отголоски райского пенья —
Те, что в памяти прозвучат
У моих нерожденных внучат,
Как надежда и как утешенье.
«Снег – серебряный порошок…»
Снег – серебряный порошок —
Щедро сыпят добрые тучи,
До чего же мне хорошо,
Никогда не бывало лучше!..
Твердо помню – теперь девятьсот
Семьдесят пятый год —
Год всемирного заката,
До которого я когда-то
И не думала, что доживу,
Только это совсем негоже.
Чепуха. Ни на что не похоже.
Но со мной – не во сне – наяву
Очень странное что-то творится,
Будто время идет для меня
Час от часу, день ото дня
Не вперед, а назад,
Будто я становлюсь моложе,
А не старше, чем прежде была.
Я смотрю из окна на сад —
Всё в саду на праздничный лад
По-весеннему веселится.
Вот, слетев на обрубок ствола,
Вдруг запела Синяя Птица,
Круглоглазая, как сова, —
Птица счастья из сказочной зоны:
«Жизнь прошла. Безвозвратно прошла.
Жизнь прошла, а молодость длится».
И в ответ ей мой кот ученый,
Мудрый кот лукоморный мой
Замурлыкал: – Постой, постой.
Дай подумать… Эти слова
Ты когда-то давно написала,
Но теперь лишь мне ясно стало,
До чего ты была права.
1975
Довольно вздор нести
Про ту страну, куда Макар,
Кипя, как самовар,
Телят, а не котят
Гонял иль не гонял.
Из щепетильности я жизень потерял.
Но это до меня уже Рембо сказал.
Рембо сказал,
Я повторила —
Чужое часто очень мило
И даже – до чего! – милее своего.
Так вот, под Рождество
Слова – не знаю для чего —
Бегут, как на вокзал
К отходу поезда.
Им Вифлеемская звезда
Сквозь суть и муть
Столетий и столетий
Указывает верный путь,
Ведущий прямо в никуда.
Звонок последний, третий…
Как много надо слов
На этом свете,
Предлогов, междометий,
Недоговорок, строк и строф,
Пред тем
Как, повздыхав дней семь,
Спросить свою судьбу —
Задать ей напрямик вопрос-табу:
– А жил я, собственно, зачем? —
Не удостоясь от судьбы ответа,
Отнюдь с ней не вступать в борьбу,
Но все же, несмотря на это,
Пустить себя в трубу:
С улыбкою на лбу
Уютно лечь в гробу,
Став наконец и глух и нем,
Исчезнуть насовсем —
До перевоплощения,
До следующего рождения
В Египте? Индии? Иль Полинезии?
Здесь у Поэзии,
Рассчитывая на ее ко мне благоволение,
Осмеливаюсь я просить прощения
За мной в нее вводимое нововведение,
За мой
Постскриптум:
Вижу, разум
Зашел за ум,
Без подготовки, разом,
С размаху, наобум
Рассыпался по фразам,
По городским садам,
Аэропланным базам
И ординаторам,
Повсюду – тут и там, —
Пока под утро августа второго
Не докатился вдруг до Пскова…
Сомненье – мудрости основа.
Поэтому-то я признать готова
Моих неточностей прилив-отлив,
Моих ошибок океанский риф
И всякие там шуры-муры,
Хотя в них не участвуют амуры.
Особо подчеркнула я б
Строку, где о нововведеньи речь,
Сиречь
Тот шестистопный ямб,
Который —
Подумать страшно – без цезуры!
Засим я – ненавидя споры —
Согласна: правильно «жизнь», а не «жизень»,
Не «насовсем», а «навсегда», —
Но, извините, я капризен,
Вернее, я капризна. Даже очень.
Язык мой ангельски неточен,
Акробатичен и порочен,
Я сознаюсь в том без труда.
Мне нравятся созвучья лиро-лирные,
Барокко-рококо-ампирные,
Не значащие ничего.
Мне нравятся неправильности речи —
Я ими щегольнуть не прочь —
Они горят, как елочные свечи,
Как обещания волшебной встречи
В рождественскую ночь.
Ах, Рождество…
На этом «Ах…»
И многоточии
Кончается мое стихотворение —
В порыве яростного вдохновения
Парапсихического откровения,
Написанное ретро-авангардно,
Гиппопотамно-леопардно,
К тому ж гиперреалистично —
И не за совесть, а за страх.
Не знаю, как кому,
Что до меня – оно мне лично
И по душе, и по уму
И льстит тщеславью моему —
Какой полет! Какой размах!
Но знаю, авторы не вправе
Себя превозносить и славить —
Недопустимо! Неприлично!
И можно многое еще