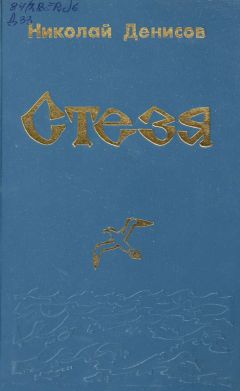Старый солдат
Вся-то баталия проще простого:
Марш изнуряющий, бомбы, паром.
Клюнуло там на Дону, под Ростовом,
При отступлении в сорок втором.
И опрокинулось знойное небо,
И захлебнулось шрапнельной икрой.
Вот и в Берлине – не выпало... не был,
А следопыты решили: герой!
Шаг за шажком и – взошел на крылечко.
Выдали угол... (На власть не ворчи!)
Вот и кулек диетической гречки,
И валидол – прописали врачи.
Скрипнула дверь, постоял на пороге,
Сердце сдавило, припал к косяку,
Крупкой коричневой сея под ноги –
По домотканому половику.
Много недель было в комнате тихо,
Думали выехал... Богом храним.
Вновь следопыты пришли... А гречиха
В рост поднялась и шумела над ним.
1983
Мороз! Ну что мороз?
Согреет перемена.
Отчаялся завхоз –
Дровишек ни полена.
Отдал в растопку шкаф,
Крылечко разбирает.
А печка, что удав, –
Не давится, глотает.
Трубим себе – гурьба,
Крещеная войною:
«С контрольною – труба!»
(Эх, если бы с одною!)
Ну что ж! Не в первый раз!
Дотерпим до проталин,
Ведь думает о нас
В Кремле товарищ Сталин!
И с довоенных лет–
Кузбасса и Магнитки! –
Висит его портрет
На очень прочной нитке:
Улыбка на губах,
Задумчивая поза,
В шинельке, в сапогах –
Точь-в-точь, как у завхоза...
1985
Там все было: труд и гулянки,
И горечь недавнего зла.
И травка на нашей полянке
Шелковей и мягче была.
Там были повыше деревья,
Пожарче в печах чурбаки,
И песенней бабы в деревне,
Проворней в любви мужики.
Там в клубе – под флагом саженным,
В багетах на красной стене, –
Был Сталин в мундире военном,
И Жуков на белом коне.
Напротив же, метко придуман,
Шаржирован краской иной,
С дубиной пещерною Трумэн,
Грозящий «холодной войной».
Но шли краснозвездные танки
И реял над ними кумач,
И пятились жирные янки,
И проклятый Франко-палач.
Был радужен мир и плакатен,
Но было легко все равно
Не видеть на солнышке пятен,
Так ласково грело оно.
1985
Навезли винограду, товара – под кровлю,
Можно оптом, хоть ящик, кому по плечу.
– Не толпитесь, всем хватит! – взывает торговля.
– Но невесело я у прилавка торчу.
Дух медовый, дух сладостный – выше скворечен,
Наконец-то, навалом, хоть раз – наконец!
Если б раньше, немножко я был бы утешен:
Перед смертью просил винограда отец.
Мы тогда в огороде копали картошку,
Понаехали в помощь – племянники, брат...
Наш отец как-то тихо сидел у окошка,
Как-то очень прощально смотрел на закат.
Что привиделось старой закалки солдату?
Ни бои, ни полегший под Харьковом взвод...
– В сорок третьем, – промолвил он, – в нашу палату
Всем по ветке принес винограду начпрод...
Снова осень. Подуло с полей, посвежело,
К югу тянутся гуси, вот-вот улетят.
А сорока на куче ботвы порыжелой:
– В магазине, – стрекочет, – дают виноград!
– Навезли... У прилавка такое творится!
И торговля в запарке – товар ходовой.
– Сколько вам, Николай? – тормошит продавщица...
– Не она ль мне припомнится в час роковой?
1986
Мимо сельмага да мимо пекарни –
Песни и смех на возах!
Удаль и воля – мужчины и парни,
Женщины – гибель в глазах.
Что за огонь в молодом иноходце,
Что за пожар в седоке!
Деготь кудрей из-под кепочки вьется.
Плеточка
пляшет
в руке.
Из-за калитки на диво гляжу я,
Улица света полна.
– Вот заберут тебя в землю чужую
Мама кричит из окна.
Едут и едут!
Буланки и Рыжки
Звонко ступают след в след.
– Позолоти-ка мне руку, мальчишка!
– Рад бы, да денежки нет.
Глянула из-под бровей, из-под шали.
Грустно махнула рукой...
Вот и проехали, в поле пропали.
Словно бы праздник какой.
1986
... И ушел поутру в порт,
Нахлобучив шапку с «крабом»,
Высоко взлетел на борт,
Как легки ступеньки трапа!
Под ногой машины гул,
До заклепки все знакомо.
Сапоги переобул, Закурил.
И снова – дома.
1984
Уходим.
Отданы швартовы.
Нам с пирса машут:
– В добрый час!
А я, удачливый, фартовый,
Готов хоть к полюсу сейчас.
И вот в борта колотят льдины,
И ветры вздыбили волну,
И берега, как субмарины,
Надолго скрылись в глубину.
Еще заманчив путь к Певеку:
Торосы, сполохи, моржи!
Но понял я: Как человеку
Мне ближе волны спелой ржи.
Пусть я пройду и эти мили,
И льды, и холод сокруша.
Но все ж – от клотика до киля –
Земной останется душа.
1975
Кто знал, что беда случится?
В море, где норд свинцов,
Нашли на борту синицу
И малых ее птенцов.
Вздыхали, мы долго споря,
Но вздохи – одна тщета.
И море! Да что там море!
Долбило вовсю в борта.
Пернатые так ослабли,
Пропали бы ни за грош.
Но встречный один кораблик
Трубою вздохнул: «Ну что ж!..»
Мы враз ободрились: муки
Окончились. Но с тоской
Отдали птенцов на руки
Такой же братве морской.
Дай Бог им на юг пробиться
К теплу, где трава жива...
Что ж думала ты, синица,
Бедовая голова!
1975
Так завершился сюжет
этой сумрачной повести
И присоседился к списку
привычных потерь.
Белая ночь!
Мы ходили по Диксону в поисках,
Может быть, грусти?
Чего – уж не знаю теперь!
Снег прошлогодний светился
отчетливо, матово,
Дорисовав побережья
высокий карниз.
Как на колеса,
я грязь на ботинки наматывал,
Будто совхозный,
случайно не списанный «ЗИС».
Ты мне твердил про зимовку
на острове давнюю
И про подругу,
что ждать обещала сто лет.
Вот в полутьме неожиданно
стукнули ставнями,
И ночника загорелся
таинственный свет.
Мы на крыльце деревянном
для смелости топнули
Поочередно,
тревожа семейный народ.
«Шляются тут!» –
нам в ответ только форточкой хлопнули,
Бросив вдогонку:
такая, мол, здесь не живет!
Жизнь моряка!
Мы судьбу выбирали не сами ли?
Шли мы на судно,
был холод придирчив и груб.
Но обнявшись,
мы веселые песни горланили,
Пристанский сторож
приветливо крякнул в тулуп.
Норд сатанел,
надувая над грузами пологи,
Пенился вал
и с размаху хлестал о гранит.
И она понавещали нам
лишнего метеорологи,
Вот и прибой,
как нанявшийся, в берег долбит.
Приободрясь,
мы ступили на палубы чистые.
Как было знать нам:
вернемся ль на этот причал?
Норд сатанел,
будто список потерь перелистывал,
И до отплытия
в стенку каюты стучал.
1976
В Америку – рукой подать.
Эфир напичкан твистами.
А в Карском море благодать:
Плыви себе, насвистывай!
И не грущу я ни о ком,
Слежу за льдиной хрупкою,
За каждым нерпичьим хвостом,
Попыхивая трубкою.
О чем грустить? О чем жалеть?
По штату – не положено!
Вон спит на холоде медведь,
Поужинав мороженым.
Я ж в полночь белую не сплю
И ничего не делаю.
И жмется льдина к кораблю
Коварной грудью белою.
1975