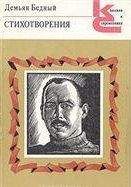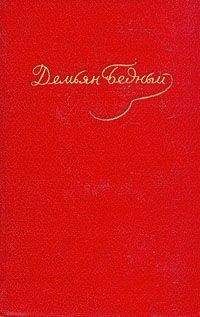1919
(Новогоднее)
Среди поэтов — я политик,
Среди политиков — поэт.
Пусть ужасается эстет
И пусть меня подобный критик
В прах разнесет, мне горя нет.
Я, братцы, знаю то, что знаю.
Эстету древний мил Парнас,
А для меня (верней, для нас)
Милее путь к горе Синаю:
Парнас есть миф, Синай — закон,
И непреложный и суровый.
И на парнасский пустозвон
Есть у меня в ответ — готовый
Свой поэтический канон.
Сам государственник Платон,
Мудрец, бежалостный к поэтам
(За то, что все поэты врут),
Со мной бы не был очень крут,
Там, где закон: «Вся власть — Советам»
Там не без пользы мой свисток,
Там я — сверчок неугомонный,
Усевшийся на свой законный
Неосуждаемый шесток.
Пусть я лишь грубый слух пленяю
Простых рабочих, мужиков,
Я это в честь себе вменяю,
Иных не надо мне венков.
Вот я поэт какого сорта,
И коль деревня видит черта
И склонна верить чудесам,
То черта вижу я и сам.
С детьми язык мой тоже детский,
И я, на черта сев верхом.
Хлещу его своим стихом.
Но: этот черт уже советский;
На нем клеймо не адских сфер,
А знак «Эс-Де» или «Эс-Эр»,
И в этом нет большого дива.
Про черта речь моя правдива.
Где суеверная толпа
Покорна голосу попа,
Там черт пойдет в попы, в монахи,
И я слыхал такие страхи,
Как некий черт везде сновал,
Вооружась крестом нагрудным,
И, промышляя делом блудным,
В лесу обитель основал,
Вошел в великую известность
И, соблазнивши всю окрестность,
Потом (для виду) опочил
И чин святого получил;
С мощами дьявольскими рака,
По слухам, и до наших дней,
Для душ, не вышедших из мрака,
Святыней служит, и пред ней,
Под звон призывно колокольный,
Народ толпится богомольный.
Черт современный поумней.
От показного благочестия
Его поступки далеки:
Он от строки и до строки
Прочтет советские «Известия»,
Все обмозгует, обсосет
И, случай выбравши удобный, —
Советской власти критик злобный.
Иль меньшевистскую несет,
Иль чушь эсеровскую порет,
А черта черт ли переспорит?!
Черт на вранье большой мастак,
В речах он красочен и пылок.
«Ну ж, дьявол, так его растак!»
Его наслушавшись, простак
Скребет растерянно затылок:
«Куда он только это гнет?
Порядки царские клянет,
Но и советских знать не хочет.
Про всенародные права,
Про учредиловку лопочет,
А суть выходит такова,
Что о буржуях он хлопочет.
Кружится просто голова!»
И закружится поневоле.
Черт — он учен в хорошей школе
И не скупится на слова.
У черта правило такое:
Слова — одно, дела — другое,
Но речь про чертовы дела
Я отложу ужо на святки.
Хоть вероятность и мала,
Что речь продолжу я, ребятки.
Бумага всех нас подвела:
Большие с нею недохватки;
В газетах нынче завели
Такие строгие порядки,
Что я, как рыба на мели,
Глотаю воздух и чумею,
Теряю сотни острых тем
И скоро, кажется, совсем.
Чертям на радость, онемею.
Пишу сие не наобум.
Не дай погибнуть мне, главбум,
И заработай полным ходом, —
На том кончаю. С Новым годом!
1920
В руках мозолистых — икона,
Блестящий крест — в руке попа.
Вкруг вероломного Гапона
Хоругвеносная толпа.
Толпа, привыкшая дорогу
Топтать к Христову алтарю,
С мольбою шла к земному богу,
К самодержавному царю.
Она ждала, молила чуда.
Стон обездоленного люда
Услыша, добрый царь-отец
Положит мукам всем конец.
Царь услыхал, и царь ответил:
Толпу молящуюся встретил
Его губительный свинец.
Великий, страшный день печали, —
Его мы скорбью отмечали.
Но — крепкий плод его дозрел.
Так пусть же песни наши грянут!
Победным гимном пусть помянут
День этот все, кто был обманут
И кто, обманутый, прозрел!
Чхеидзе и Церетели обратились к Антанте с просьбой о помощи против большевиков.
Из газет
В Александровском садам
Музыкам игрался
И т. д.
Известная песенка
Национальный гимн социал-духанщиков
Ми садился на ишак
И в Париж гулялся.
Клеманса, такой чудак,
Очень нам смеялся.
Гулимджан! Гулимджан!
Знаим свае дело:
Весь Кавказ мы за ляржан[10]
Продаем умело.
«Тьфу! — смеялся Клеманса, —
Не было печали!»
Ми ему в два галаса
Гулимджан кричали:
Гулимджан! Гулимджан!
Знаим свае дело:
Честь и совесть за ляржан
Продаем мы смело!
Ллойд-Джорджданья дверь открыл
В кабинет случайно,
Ми с Чхеидзем гаварыл:
«Рады чрезвычайно!»
Гулимджан! Гулимджан!
Знаим свае дело:
Мы Баку вам за ляржан
Уступаем смело!
Закричали ми: «Ай-ай! —
С невеселым физий. —
Ради бога, присылай
Поскорей дивизий!»
Гулимджан! Гулимджан!
Знаим свае дело:
Продадим вам за ляржан
Душу мы и тело!
Ленин сжарит шашлыку
С наших демократий,
Он имеет на Баку
Преболшой симпатий!
Гулимджан! Гулимджан!
Знаим свае дело:
Наш Тифлис — один духан!
Покупайте смело!
Ллойд-Джорджданья атвечал:
«Тронут вашим горем.
Наш английский флот помчал
Нашим Черным морем!»
Гулимджан! Гулимджан!
Нам какое дело?
Нас коварство англичан
Вовсе не задело.
«Мени тенкс!» — «Мерси боку!»
«Можем обещаться,
Что английский наш Баку
Будет защищаться!»
Гулимджан! Гулимджан!
Знаим свае дело:
Мы Баку вам за ляржан
Уступаем смело!
Независимый Тифлис
Тут нам объявлялся.
Ми кричали: браво! бис!
И назад гулялся!
Гулимджан! Гулимджан!
Знаим свае дело:
Весь Кавказ мы за ляржан
Продаем умело!
Исполнили: Церетели и Чхеидзе. Записал Демьян Бедный.
1920
На предложение, сделанное русскими эмигрантами — дать швейцарским банкам в обеспечение свои имения и дома в России, представитель швейцарских интересов заявил: 1) что предложенный залог — миф, никаких гарантий не дающий, 2) что русские должны обеспечить заем реальными гарантиями, как-то: драгоценностями, имениями где-либо за границей или в Польше.
«Последние новости»
Персоной будучи в кругах известных видной,
Потомственный буржуй с осанкою солидной
(При случае его я назову)
Зашел в Париже в банк и сразу: «Вуле-ву?
На редкость выгодная сделка.
Мне банк даст золота, я банку — векселя
Под обеспеченье!..»
«Какое?»
«Есть земля…
Вполне исправное громадное именье,
При нем завод — мое почтенье!
Железный путь совсем вблизи,
Большая пристань тут же рядом…»
Какой же банк таким побрезгует закладом?
В минуту дело на мази.
Но… вмиг всю сделку погубило
Словцо, всего одно словцо.
Директор банковский, смеявшийся так мило.
Вдруг скорчил кислое лицо:
«А как — пардон, мусью! — как велика
оценка
Именья вашего?»
«Мильон».
«Мерси, мерси!..
А где ж, мусью, оно?»
«Где? — побелев, как
стенка.
Забормотал буржуй. — В России!.. Ан Рюсси!..»
«Ах, ан Рюсси!» — вздохнул в ответ директор
банка
И дал российскому мусью… на чай полфранка!
1920
Дрожит вагон. Стучат колеса.
Мелькают серые столбы.
Вагон, сожженный у откоса,
Один, другой… Следы борьбы.
Остановились. Полустанок.
Какой? Не все ли мне равно.
На двух оборванных цыганок
Гляжу сквозь мокрое окно.
Одна — вот эта, что моложе, —
Так хороша, в глазах — огонь.
Красноармеец — рваный тоже —
Пред нею вытянул ладонь.
Гадалки речь вперед знакома:
Письмо, известье, дальний путь…
А парень грустен. Где-то дома
Остался, верно, кто-нибудь.
Колеса снова застучали.
Куда-то дальше я качу.
Моей несказанной печали
Делить ни с кем я не хочу.
К чему? Я сросся с бодрой маской.
И прав, кто скажет мне в укор,
Что я сплошною красной краской
Пишу и небо и забор.
Души неясная тревога
И скорбных мыслей смутный рой…
В окраске их моя дорога
Мне жуткой кажется порой!
О, если б я в такую пору,
Отдавшись власти черных дум,
В стихи оправил без разбору
Все, что идет тогда на ум!
Какой восторг, какие ласки
Мне расточал бы вражий стан,
Все, кто исполнен злой опаски,
В чьем сердце — траурные краски,
Кому все светлое — обман!
Не избалован я судьбою.
Жизнь жестоко меня трясла.
Все ж не умножил я собою
Печальных нытиков числа.
Но — полустанок захолустный…
Гадалки эти… ложь и тьма…
Красноармеец этот грустный
Все у меня нейдет с ума!
Дождем осенним плачут окна.
Дрожит расхлябанный вагон.
Свинцово-серых туч волокна
Застлали серый небосклон.
Сквозь тучи солнце светит скудно.
Уходит лес в глухую даль.
И так на этот раз мне трудно
Укрыть от всех мою печаль!
1920