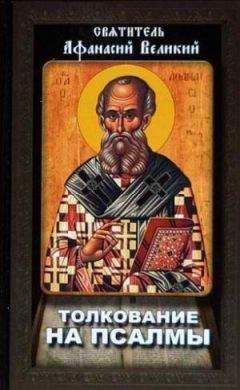Ознакомительная версия.
Псалом 68
1. В виду, Свет мой Горний! – того, что пускает душа пузыри,
2. Того, что я в тине, где не на что встать, потому что
Я в грозное море заплыл, где бьёт меня шторм вдалеке от земли,
3. Что слабну от крика, ушам непонятно, шепчу что…
4. Того, что глаза истомились от соли и от ожиданий
Твоей скорой помощи; Того, что их – тех,
5. Кто вздумал меня ненавидеть безвинно за Грех —
Поболее, чем в шевелюре волос скоро станет;
Того, что враги, укрепившись всё больше, желают догнать,
Убить и тэ. пэ. (если б было, за что!); И того, что (кому-то) отдать
Я должен по мненью врагов то, чего и не брал, —
6. Ты, добрый Судья, для кого моё сердце – кристалл,
А может, – стекло: суть в прозрачности сердца, достаточной,
Чтоб видеть безумье и Грех,
7. Ты, добрый Судья, прошу, – не заставь
за грехи мои многих порядочных
Людей, на тебя уповающих, до срамоты
Дойти оттого лишь, что шли они рядом со мной,
Не я, так они Тебя честно искали и ищут, Свет мой.
Припев:
И боящийся нашего Бога увидит мою судьбу
И порадуется, и много вслед таких ринется
Мне, рабу.
8. А что до меня, мне, рабу, поношение – из-за
Тебя, и по той же причине мне – краска стыда.
9. Чужда моим братьям вся пылкая дичь и харизма.
Единоутробным по матери странна, и чу́жда. Чужда́.
10. Так вышло: снедает меня зверем ревность о доме Твоём.
Так вышло: вся ругань в Твой адрес снискала во мне адресата.
11. Так, вплоть до того, что оделся в лохмотья постом,
Я, обозначая позор…
12. Пальцем тыкать им было занятно.
13. Склоняла меня болтовня всех завалинок праздных
И в песнях героем у пьяниц я был безобразных.
14. Пляшу и молюсь… может, время коснуться меня?
Спаси же! По великодушию правду послушай
И правду яви!
15. Дай мне выйти из тины гниющей,
Из горькой глубокой воды и ревущего злостью огня!
А значит – спаси от воров.
16. Да не будет волненье потопом,
Да не поглотит мою лодку пучина, да не
Сомкнёт свои губы колодец над Божьим холопом,
Зане —
17. Услышишь. Ведь – благ. Честно милостив. Щедр как угодно.
Заметь, защити, и призри!
18. И только не нужно лица отворачивать: отрок
Твой скорбен и мукой сжираем внутри.
19. Послушай! Избавь хоть затем, чтоб воры не смеялись,
20. Тебе ведь известен их смех: полагаю, они
Видны хорошо Тебе.
21. Я, выносивший их ярость,
Как ждал утешителя! – не было. Ждал сострадальца – ни-ни.
22. Меня на пирах угостили отборною желчью,
Мне уксуса налили полную чашу.
23. Что им пожелать?
Да будет их пиршество им же охотничей сетью,
Расплатой, жестоким силком посреди их стола.
Припев:
24. И, поражены слепотой, пусть глаза их погаснут.
Хребты их согни, Вседержитель, навечно крюками.
25. Пусть ярость на них пролитая, ожжёт их ужасно,
Дворы опустеют, дома пусть полны мертвяками.
26. За то, что когда Ты карал, как шакалы, пинали
Они, и, когда уязвил, – расширяли мне раны.
27. Солги им на ложь, чтобы правды вовек не вкушали!
Сотри их из книги живущих людей, ввиду того, что – обезьяны! —
И нечего их поминать меж святых.
28. Я же – нищ,
И вот пострадал, подлежу, вероятно, спасенью.
Восславлю же Грома Живаго, подо чьей укрываюсь я сенью!
Что́ юный телец с бугорками рогов и копытцами? —
Не пища в сравнении с песней, сладчайшей из пищ.
29. Пусть, видя меня, оборванцы светлеют лицами,
Пусть молятся, просят – душа моя тем оживает.
30. Ведь слышит убогих наш Свет и колодников сердцем прощает.
31. Хвали Его небо, хвали его, суша и море,
32. За то, что спасёт он Цыйон, города восстановятся вскоре,
Поселятся Грома наследники в них,
В потомках Господних рабов, в сердцах их всё тот же родник
По имени Свет – будет бить,
А значит, что в городе Грома им – быть.
Будь я режиссёром, короткометражку б я снял,
Вложив в неё всё содержание сирого сердца:
И в кадре – одно серебро среднерусского дня,
Длина? – Две минуты. Сюжетец? – почти без сюжетца:
Нашивка, что ранен. Сержант отворяет калитку.
Некрашеный дом, бузина, на калитке кольцо.
Дам я ему лет двадцать пять – двадцать восемь навскидку;
Мешок его пуст, зарыжело цевьём ружьецо.
Собака с баранкой на месте хвоста приседает,
И пасть разевает, и блещет на солнце слюна.
«Хоть, может напиться дадут – так же в книжках бывает —
Мать, может, там, или вдова, и предложит вина,
А может, постелят в сенях», – мой служивый мечтает, —
«Тулупом овчинным накрывши простреленный бок,
Оставят в покое». Дворняга смеется и лает,
И вздорно по ветру весёлый гремит флюгерок.
Будь я режиссёром, я выбрал бы при монтаже
Единственный кадр, тот, в котором застыло движе
Веранда, сруб неважен, мотылёк,
Неважен над углём тоски дымок.
И не важна сирень в стекле веранды,
Неважно всё, чему все были рады,
Что в памяти есть россыпь снимков с дома,
Что сердце, график – линии маньяк
Срисовывает дом – с фотоальбома.
Дом выглядел родной не важно, как,
Точней – веранда. Скорбно, с абажура —
Тем жарче, чем незримее натура.
Воображенье пишет акварель,
Ведь не при мне же абажур горел.
Дом цел в воспоминаньях мотылька
Приабажурного, прожившего так мало,
Что до пожара мотылька не стало,
Что фото гладишь, памяти рука?
Брось, память так умрёт, как я умру,
Брось, снимки, что желты, совсем истлеют.
Что глаз фотографировал? Муру,
Любительскому кадру – двойка. Неуд.
Не лги, что жил, короче жизнь, чем день,
Что длится до закатного пожара.
У ангела, в сирень
Впускающего хоботок свой, вздрагивает жало.
В кулак с роскошного куста
Калина – девка – сирота
Жмень крупных ягод отпускает.
Над южным ветром облак тает;
Трава над чёрными комками
Земли. Горячий воздух сух.
Глаза беспутных молодух —
Нет, вороны над головами!
Над золочёною травой
«Глаза», летящие попарно,
Следят, как сочный бьёт угарно
Из чернозёма пар живой.
Черны, в ресницах мощных крыл,
Молчащие без выраженья.
По небу ярких лиц скольженье:
«Ты что, о смерти позабыл?» —
И: «Для чего в горсти калина?» —
И: «Горечь рвать – знать горечь есть».
И вспорет ветер тучи жесть.
И вспыхнет неба середина.
Вам сказать, почему столько раз из воды я сухим выходил?
То меня кочегар небеснейший ни разу не подводил.
…Труба была длинной-длинной, солнышко крепко пекло.
Везде арматура, доски, битое стекло,
Да что я о стёклах?.. дальше труба паровая шла,
Которую отколупывать отбойником, а компрессор
Был хилый-прехилый, шло вяло, нешуточная жара,
Досточка через ров, сучок под ногою треснул,
Пришлось и плечу ознакомиться с паровою трубой,
Легонько шипела кожа, после ойкала медсестричка.
Йод жёг, работать в бинтах неудобно же день деньской,
Да в каждый обед перевязка, да что я про бинт?.. я о личном:
О том, что с тех пор талисманом в моей труба
Проходит в душе паровая с оборванной стекловатой,
Бывало, давление пара доходило до невербальности,
и тогда ожог мой саднил сероватый
На правом плече, и я тихо просил: «Кочегар,
Открой там, мой ангел, вентиль, на сердце так давит пар»…
Меня кочегар мой небесный ни разу не подводил,
Лишь поэтому столько раз из воды я сухим выходил.
Я стою на молитве великим постом. На коленях
Ардов страстно молился, звуча, точно пушкинский стих,
И задумчиво дух мой парит в неземных откровеньях:
Владыко дней моих!
Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения.
Да брат мой от меня не примет осуждения,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи…
И крестом осенил я себя. Тут открылася дверь,
И вошёл в неё некий лохматый, с гитарой подмышкой,
С беломориной… «экий», – подумалось, «зверь».
Оправданье одно: то, что был он безусым мальчишкой…
Дружно бабки зашикали, пламя качнулось свечное,
Шмыгнул носом, и встал визитёр у меня за спиною.
И шепнул: «Не валяй дурака, ты со мной ведь знаком,
Потому что ты был мной»… И на двор вышли мы с пареньком.
Было зябко… нет, юноша мне ничего не поведал,
Только под ноги плюнул, растёр, и сказал: «Сволочь. Предал».
Я плечами пожал и сказал: «Врёшь, я тоже поэт»,
И достал он тогда из портков комсомольский билет,
Говоря: «Я сегодня на стол его клал, потому как
Заплатили нечестно бригаде». – И детская мука
Исказила неумно лицо, не слеза ли сбежала?..
На его комсомольский билет посмотрел я устало,
И плечами пожал: я ведь знал – оплатили бригаду,
Только нынче мне той справедливости было не надо…
Он сказал: «Мне семнадцать. Мы в армии были? Ответь».
Я кивнул. – «А присягу давали»? – Кивнул. – «Сука, смерть
Заслужил ты», – презрительно мальчик сказал мне кудрявый.
«Убивай», – говорю, – «Я ведь – ты. И зовут меня Славой».
Тут он бритву достал марки «Спутник», – и к вене, гад, строит.
Говорю: «Это было в двенадцать. Ты взрослый. Не стоит».
Спрятал бритву щенок, хоть и гнал с его точки «пургу» я.
И сказал: «Если врежу, ты щёку подставишь другую»?
«Да. И ты подставлял, хоть не помню, чему ты молился».
Тут он врезал. Храм в небо уплыл, я ж – на землю свалился.
И привиделось мне, что вошли двойники в Белый Дом,
И привиделось, что двойники овладели Кремлём,
И что бьют пожилое жулье молодые солдаты,
И что русская кровь на камнях Грановитой Палаты.
А когда я очнулся, был весь перепачкан в земле,
Неуверенный, что, дай Господь, всё в порядке в Кремле,
В головинскую церковь, качаясь, вошёл, покрестился,
И сказал: «Ты прости меня, Боже, душой я смутился».
И вернулся к молитве Великим постом. На коленях
Ардов страстно молился, звуча, точно пушкинский стих,
И задумчиво дух мой парил в неземных откровеньях:
Владыко дней моих!
Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения.
Да брат мой от меня не примет осуждения,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи…
Управленец, чекист из бывших
Ознакомительная версия.