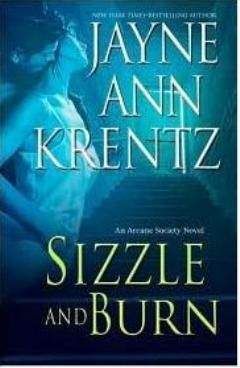«Вдруг над черноморьем долгие раскаты, хлябь, гром…»
Вдруг над черноморьем долгие раскаты, хлябь, гром…
Боже, неужели, все уже случилось? Полыхай, гроза!
Разбежались голые пляжные людишки, и одни
Бегают босые, голенькие дети за волной.
Вот и я уселся, прячусь под навесом и залез в халат,
Спички отсырели, в пачке раскрошился местный табачок.
Что же будем делать?
Вспомним всех забытых, мертвых и живых,
За морского далью в некотором царстве накрывают стол,
Под вишневой пенкой за вечерним чаем свежий каравай —
Мы его преломим, мы его помаслим — каждому кусок.
— Как вы побледнели, что вы, в самом деле?
Поправляйтесь тут.
— О, с какой охотой!
Непременно, ясно, здесь наверняка…
Выйду на веранду, ты в цветастом платье,
рядом — гиацинт.
— Нет ли, ведь бывает, четверти стакана красного вина?
Всю эту дорогу, что считают жизнью, я любил тебя.
Всю эту минуту — перелет за море — я спешил к тебе.
И теперь мы вместе.
Видишь, аметистом блещет гиацинт,
И теперь, конечно, точно черноморье, плещется вино.
Как знакомо, мило, дорого, приятно мне твое лицо —
Русые кудряшки, сильные надбровья и припухлый рот.
Помню я, что имя было превосходно. Ты хранишь его?
Впрочем, слышишь, знаешь,
что там заиграли в комнате большой?
Поглядим с веранды —
в этот час далекий чистый окоем.
Что там?
Ах, узнать бы, что случилось с нами в стороне родной?
Братья, пустите домой,
Черное платье — долой,
Дайте воды и вина,
Ночь наконец не видна.
Желтый плывет абажур,
Много, но не чересчур.
Кожа и лайка твоя —
Ах ты, зазнайка моя.
Пусть нам Вертинский споет,
Скрябин по клавишам бьет,
Черное это белье
Все ж не черней, чем былье…
Сверху бубновый валет.
«Да, — говорю тебе, — нет».
Поздно приходит любовь,
Поздно расходится кровь,
Кровь у тебя на губах,
Спи у меня в головах,
Падает тонкий стакан,
Валится аэроплан,
Тонет британский линкор,
Выльется на коленкор
Самый последний глоток.
Дай мне забыться, дружок!
«Все те же ионические поленницы в старом окне…»
Все те же ионические поленницы в старом окне
подсыхают к отопительному сезону,
еще два-три визита, и вполне
доживешь до заслуженного пенсиона.
И когда я приеду в последний раз,
чемодан подволакивая с одышкой,
то с порога, как водится, вспомню Вас,
в Вашей комнате, сильно от Вас отвыкшей.
Но здесь как-то сподручнее атлантический перелет,
и когда бы стать ангелом на небесном шпиле,
то увидеть можно среди болот
то чухонское место, где жили-были,
и затем на обратном конце дуги —
безымянный берег в засохшем гриме, —
только там ведь, где сношены сапоги,
босоногого детства дается имя.
Потому и вытягивается губа,
и не можешь позвать и назвать не в силах —
так, в прозрачных сумерках век сгубя,
доживаешь, как мерин, до бредней сивых.
Было время, и мы не сказали: «Ты…»
Календарь закрыт, и не будет завтра,
потому и набиты разлукой рты,
не вкусившие досыта брудершафта.
Здесь плыла лососина,
как регата под розой заката,
и судьба заносила
на окорок руку когда-то,
и мерцала огранка
янтарного чистого зноя,
и казала таранка
лицо всероссийски речное.
Я сюда приходил,
под твои сталактиты барокко,
уходя, прихватил
от норд-веста и юго-востока
то, что знаю и помню
и чем закушу рюмку Леты;
только что-то сегодня
просрочены эти билеты.
Елисеевский, о!
Темнотою зеркал ты мне снишься,
высоко-высоко
ты под буйные своды теснишься,
ничего-ничего,
это было и, значит, со мною,
никуда не ушло,
ни за что не прошло стороною.
Стоит сунуть десятку
в твою золотую кабину,
и глубокую шапку
я снова на уши надвину.
Поглядит на меня продавщица
в бессмертном отделе.
Что ж, она отлучиться
могла, да и эти огни прогорели.
Я последним стою,
и звенит колокольчик: «Закрыто».
Ни фортуна, ни ссора,
ни даже пустая обида…
Сыпь мне мелочь, гони,
наконец, распоследнюю сдачу,
а умру — помяни,
и в ответ я невольно заплачу.
Потому что здесь был
пресловутый эдем нашей жизни,
потому что не место
ни каверзе, ни укоризне
там, где дали кусок
и налили граненый стаканчик,
где ломался басок
и бывал неуживчивый мальчик.
Не за жир и витрины,
а за истину истинной веры
и за Екатерину,
что глядела в огромные двери,
я запомнил тебя
кафедральным амбаром, собором
и гляжу на тебя сиротой,
но совсем не с укором.
Было, было — прошло
и уже никогда не настанет.
Осетрина твоя
на могучем хвосте не привстанет,
чтобы нам объявить:
«Полкило нарезаю потолще!»
Это все хорошо,
что так пусто, угрюмо и тоще.
Это все ничего,
если время и знамя упали,
даже лучше всего —
пустота в этом оперном зале.
Суета сует,
толчея толчей,
предзакатный свет
твой и мой — ничей.
Мой троллейбус «Б»,
почему не «А»?
Говорю тебе,
что всему хана.
А куда пойдешь,
разве на вокзал?
Но не суматошь,
глянь, как сумрак ал.
На него падет
ночь темней ночей,
это наш оплот:
твой и мой — ничей.
Поведи меня
на чужой чердак,
отпусти меня
просто, просто так.
Ты меня умней
в девятнадцать лет,
глянь — из-за дверей
беспробудный свет!
У меня пальто —
шелковистый кант,
купим то и то
и развяжем бант.
В шесть утра опять
на троллейбус «Б».
Подойди, погладь —
говорю тебе.
Загибает морозец —
наконец, наконец!
Погибай, запорожец,
застывай, холодец!
Уплывай по предплечью,
изуверская речь,
Запорожскою Сечью
можно насмерть засечь!
Что ж вы, руки родные
и родные войска?
Кто-то должен Андрия
порубать от виска.
Но шляхетски играют
кружева простыни,
никого не свергают,
укрывают они.
Говори, моя панна,
жизнь дешевле тебя,
и глубокая рана —
дорогая судьба.
Сбей последнюю пену,
повались наповал.
За такую-то цену
я и сам бы пропал.
«Жизнь прошла, и я тебя увидел…»
Жизнь прошла, и я тебя увидел
в шелковой косынке у метро.
Прежде — ненасытный погубитель,
а теперь — уже совсем никто.
Все-таки узнала и признала,
сели на бульварную скамью,
ничего о прошлом не сказала
и вину не вспомнила мою.
И когда в подземном переходе
затерялся шелковый лоскут,
я подумал о такой свободе,
о которой песенки поют.
И медный царь, и Летний сад,
и Моховая
теперь в лицо тебе глядят,
не узнавая.
Смеркается среди глухих,
пустых окраин,
теперь наш детский край затих,
умолк, охаян.
И Невка мелкою волной
молчит под утро
о том, что знали мы с тобой,
но помним смутно,
о том, что я совсем забыл,
а ты задумал,
о всех, кто с нами жил и был,
уехал, умер.
А может, вместе ты и я —
два полубрата,
и эта невская струя
не виноваты
и в том, что нету никаких
теперь известий,
и мой звонок к тебе затих
в пустом подъезде.
«На Каменноостровском среди модерна Шехтеля…»