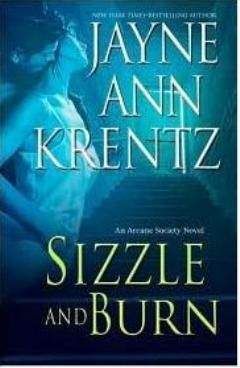«Жизнь прошла, и я тебя увидел…»
Жизнь прошла, и я тебя увидел
в шелковой косынке у метро.
Прежде — ненасытный погубитель,
а теперь — уже совсем никто.
Все-таки узнала и признала,
сели на бульварную скамью,
ничего о прошлом не сказала
и вину не вспомнила мою.
И когда в подземном переходе
затерялся шелковый лоскут,
я подумал о такой свободе,
о которой песенки поют.
И медный царь, и Летний сад,
и Моховая
теперь в лицо тебе глядят,
не узнавая.
Смеркается среди глухих,
пустых окраин,
теперь наш детский край затих,
умолк, охаян.
И Невка мелкою волной
молчит под утро
о том, что знали мы с тобой,
но помним смутно,
о том, что я совсем забыл,
а ты задумал,
о всех, кто с нами жил и был,
уехал, умер.
А может, вместе ты и я —
два полубрата,
и эта невская струя
не виноваты
и в том, что нету никаких
теперь известий,
и мой звонок к тебе затих
в пустом подъезде.
«На Каменноостровском среди модерна Шехтеля…»
Как представляешь ты кружение,
Полоску ранней седины?
Как представляешь ты крушение
И смерть в дороге без жены?
Е.Р. 1959
На Каменноостровском среди модерна Шехтеля,
за вычурным мосточком, изображал ты лектора.
Рассказывал, рассказывал, раскуривал свой «Данхилл»,
а ветер шпиль раскачивал, дремал за тучей ангел.
Ты говорил мне истово о Риме и Флоренции,
но нету проще истины — стою я у поленницы,
у голубого домика, у серого сарайчика
и помню только рослого порывистого мальчика.
А не тебя плечистого, седого, знаменитого…
Ты говорил мне истово, но нет тебя, убитого,
среди шоссейной заверти,
меж «поршем» и «тоётою»,
и не хватает памяти… Я больше не работаю
жрецом и предсказателем, гадалкой и отгадчиком…
Но вижу обязательно тебя тем самым мальчиком.
Ты помнишь,
тридцать лет назад в одном стихотворении
я предсказал и дом, и сад, и этих туч парение,
я предсказал крушение среди Европы бешеной
и головокружение от этой жизни смешанной.
Прости мое безумие, прости мое пророчество,
пройди со мной до берега по этой самой рощице,
ведь было это названо, забыто и заброшено,
но было слово сказано, и значит, значит… боже мой!
Когда с тобой увидимся и табаком поделимся…
Не может быть, не может быть, но все же понадеемся.
Совсем не осталось писем, и нет почти фотографий,
Одни записные книжки исписаны до конца.
А выбраться невозможно — как черту из пентаграммы,
Пока повелитель духов не повернет кольца.
Рассыпались наши фигуры: овал, квадрат, треугольник,
Распался карточный домик, заржа́вел магнитофон.
Теперь уже не припомнить, кто друг, кто муж,
кто любовник,
Кто просто тянул резину, кто был без ума влюблен.
Теперь уже не собраться на Троицкой и Литейном,
Молчат телефоны эти, отложены рандеву.
Никто не сможет распутать тех сплетен
хитросплетенье,
Поскольку все это было так ясно и наяву.
Одиннадцатого апреля и двадцать четвертого мая
Я пью под вашим портретом, читаю ваши стихи.
Наземный транспорт бессилен —
уж слишком дута кривая,
Воздушный путь покороче, да вот небеса глухи!
Жильцы чужих континентов, столицы и захолустий,
Кормильцы собственной тени и выкормыши казны,
Когда мы сменяем кожу своих обид заскорузлых,
У нас остаются только наши общие сны.
И тот, кто холодную почту своих кудрявых открыток
Содержит в полном забвенье, как заплутавший обоз;
И тот, кто честно выводит своих скитаний отрывок, —
Уже понимают: бумага не принимает слез.
А тот, кто остался дома, как бы наглотался брома:
Не видит, не слышит, не знает, не чувствует ничего.
Он выбрал себе наркотик — пейзаж,
что в окне напротив, —
И искренне полагает, что раскусил Вещество.
Мы думали: все еще будет, а вышло, что все уже было.
На севере коротко лето — не следует забывать!
Любовь к лиловому цвету нам белый свет заслонила,
Прощай, лиловое лето, — проклятье и благодать!
«На старой-старой хроникальной ленте…»
Памяти 10 марта 1966 года
На старой-старой хроникальной ленте
я вижу снова этот темный день,
весь этот сбор — по мелочи, по лепте.
И не понять — он больше или меньше
всей прочей жизни — да и думать лень.
Морской собор в застуде и осаде,
цепочкой перевитая толпа,
два милиционера на ограде.
В каком таком Петра и Ленинграде
протоптана народная тропа?
Цветы замерзли. Тучи потемнели,
автобус принимает пышный гроб.
Зачем же вы стоите на панели,
неужто вы и вправду не сумели
киностекляшке глянуть прямо в лоб?
О милые, о смазанные лица,
прошло сто лет, и вас не различить.
Пока дорога снежная пылится,
пока скорбит убогая столица,
что делать нам? Нам остается жить.
И вы, друзья последнего призыва,
кто разошелся по чужим углам,
еще вот здесь, на старой ленте, живы,
еще шумит, галдит без перерыва
немая речь с подсветкой пополам.
Памяти Анны Андреевны Ахматовой, Ильи Авербаха, Владимира Торопыгина
Три могилы — Илюши, Володи и Анны Андреевны —
обошел и отправился вниз по шоссе на залив.
Постоял у торосов, последним, растерянным,
предзакатным лучом старину осветив.
Над заливом на сером, лиловом и клюквенном
проступает лишь серпика узкий ущерб;
вот еще полминуты, и куколем угольным
покрывается все, что глядело наверх.
Закрываются дни, отгулявшие намертво, —
эти будки, побудки, мечты и мячи;
то, что будет еще, навсегда упомянуто;
то, что так позабылось, хоть плачь да молчи.
Эти розы и слезы, сонеты приморские,
эти зимние дачи и пляжные дни,
эти теплые плечи, колени замерзшие,
на открытом шоссе неземные огни.
На разбитом рояле запавшие клавиши,
по которым мальчишеский марш проходил,
и на этом запущенном маленьком кладбище —
три ограды еще не отрытых могил.
Всякий раз, открывая альбом Модильяни,
я тебя узнаю, но не с первого взгляда.
На продавленном нашем кошмарном диване
ты вздремнула, и вмешиваться не надо.
В неумытом окне не пленэр Монпарнаса —
ленинградские сумерки в бледном разливе,
вечный вклад сохранила на память сберкасса,
но дает по десятке в несносном порыве.
Надо долго прожить, надо много припомнить,
и тогда лабиринт выпускает на волю
эту мягкую мебель разрушенных комнат,
что была нам укромной и верной норою.
И стена восстает из холодного праха,
и гремит колокольчик полночного друга:
«Открывай поскорее, хозяин-рубаха,
это смерть незаметна и легче испуга».
Собирается дождь над Фонтанкой и Невкой,
и архангел пикирует с вестью благою,
и на кухне блокадник шурует манеркой.
Просыпайся и сонной кивай головою!
Ты не знаешь еще — все уже совершилось
и описано в каждом поганом романе.
Я молился, и вышла последняя милость —
это жгучее сходство с холстом Модильяни.
За Фонтанку, за Международный[12],
На Сенную, на Обухов мост…
Где заката свет багрянородный
И кометы черно-бурый хвост.
Для чего повисла ты, комета,
Над Фонтанкой этой и Сенной?
Ты, недостоверная примета,
Что ты там твердишь над головой?
Или только потакаешь слуху,
Посреди завравшихся небес?
Через нашу смуту и разруху
Объяви, что знаешь, наотрез.
Говори, к чему ты нас склоняешь,
Шьешь и порешь, что портновский нож,
Именем забытым окликаешь
Или клин вшиваешь в брюки клеш?
Но на трубах дальнего завода
Виден ангел Страшного суда,
И поет горластая свобода
Где-то там, за площадью Труда.
Если вправду ты закрыть решила
Наш непоправимый календарь,
Ножичком, обточенным до шила,
Под лопатку бешено ударь.