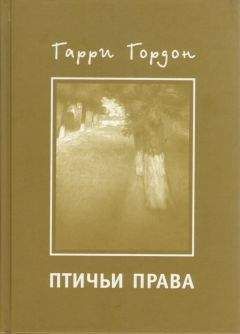ПЕРЕМЕНА
По коридору туда и обратно,
Нет конца большой перемене,
В буфете шумно едят пельмени,
С маслом и уксусом, вероятно.
В углу первоклассники скользят,
Кто-то носом в стенку зарылся.
Даже к окну подойти нельзя —
Там плачет учительница рыса.
Опущены темные шторы,
И заперты двери на ключ.
В тарелке зажег помидоры
Шуршащий пылинками луч.
За окнами блики и лужи,
Звенит, громыхает, рябит…
Наказан или простужен,
А может быть, просто забыт.
Беседу, приблизившись лбами,
Родители тайно ведут.
На улице Княжеской — баня,
Меня в эту баню ведут.
Там серые мыльные клочья,
Там шайка гремит об ушат.
Избавившись от оболочек,
Бесшумные папы кишат.
Слякоть на улице. В комнате мутной
Дымная сырость и липкий обед.
Кто так устроил, чтоб ежеминутно
Дверь открывалась сама по себе!
Громкие ведра застряли в проходе,
Лампа сочится, как кровь из десны.
Первая, робкая старость приходит,
Волосы гладит и горло теснит.
Трамвай приближается. Вот он
Уже огибает вокзал,
Уже за вторым поворотом
Пропели его тормоза.
А дворник вдогонку хохочет,
Печальные листья метет:
Куда ты торопишься, хлопче,
Трамвай от тебя не уйдет!
Майского пляжа зыбкая свежесть,
Плавных купальщиц цветные очки,
Море дрожит, раздражает и режет
Перепуганные зрачки.
Что мне на этой свободе делать?
Ноги поджать и майку надеть,
Или свое голубое тело
Прятать, синея, в холодной воде?
Керосиновая бочка у ворот.
Керосиновая лошадь молча ждет.
Тот же самый незнакомый продавец,
Снисходительный и тихий, как мертвец.
Я легко поднял бидон и отошел,
Муха медная повисла над ковшом.
Банки, ведра и канистры не гремят,
Керосиновый снотворный аромат.
В прохладных кронах день клубился
С шипеньем сельтерской воды.
Каштан сорвался с высоты
И возле ног остановился.
В сомнении, почти болея,
Стою: поднять иль не поднять…
О, как он тяготит меня
Бесцельной красотой своею.
Все дома, не о ком скучать.
Не надо бодрствовать упрямо,
И переглядываться с мамой
На осторожный клев ключа.
Ненастный день второго мая,
Чай праздничный уже испит,
Уходит в угол стул, хромая,
И — тише, тише — папа спит.
Из-за угла, издалека,
Пряжкой сверкая по моде,
Лебединский, Кока,
К окнам моим подходит.
Прячась в солнечных пятнах,
Постоял и пошел обратно.
В птичьем стеклянном гаме
Брови серые хмурит,
Не по росту большими шагами
Идет и в пригоршню курит.
Небо с утра зарастало дремой.
В сумерки стало еще тоскливей.
Что-то капнуло возле дома.
И внезапный отвесный ливень
Шумит, потрескивая, снизу вверх,
Свежий и серый, как будто пламя,
Застревая в густой траве
Пирамидальными тополями.
Я забрался под одеяло,
И не смел обратить лица
В угол, где странная мягкость стояла
В затененном лице отца.
Шалью прикрыли поверх одеяла,
Ходят по комнате взад и вперед.
Господи, Боже, — мама сказала.
И я закрываю глаза, и рот
Приоткрываю. И пятясь, пятясь,
Плечом толкаю воздух ночной,
Пока распростертые объятья
Не станут с бабочку величиной.
Соседка, старая карга,
Меня рассматривает косо,
В ее груди поет орган,
В зубах белеет папироса.
Старуха пела за стеной,
Вздыхала шумно, хлеб глотая,
И смерть моя была со мной,
Еще такая молодая.
Заправлена маслом коптилка,
Отец потянулся и лег,
И тени, ломаясь в затылке,
Пригнули к столу потолок.
И что-то на миг ослепило,
И стало понятно на миг,
Что все уже в точности было:
И этот лежащий старик,
И зыбкое пятнышко света,
И небо с зеленой луной,
И это чудовище где-то
Склонялось уже надо мной.
Ни зги, ни души на бульваре,
И глиняный берег размок,
Лишь капля в макушку ударит,
Да щелкнет далекий замок,
Да вскрикнет, капризно и звонко,
Буксир, подскочив на волне.
А дома все та же клеенка,
Все тот же пейзаж на стене.
Из сундука, комода и дивана
Достали необъятные постели.
Приподнятые локти завладели
Всей комнатой. Отец кричит из ванной,
Качнулся абажур. И бахрома теней
Растаскивает зренье по стене.
Морозное стекло, и лед на раме гладкий,
И мама морщит лоб, И складки, складки…
В волнах озона кот изумленный
Замер и смутно копилкой белел,
Голос Шульженко темно-зеленый,
Ясные струи по черной земле.
Запах октавы, глубокой и чистой,
С привкусом сладким далекого ада.
Завтра опять ничего не случится.
Ну и не надо. Ну и не надо.
Поблескивает мрак за занавеской,
Ползет, виясь, по вымокшей коре,
И теплый снег, садовый, королевский
Заносит отраженье фонарей.
Относит прочь от камеры обскуры
Кругом, в обход недвижной головы,
То белые, то черные фигуры,
Дышать в затылок холодом живым.
Светлеет снег и колосится гуще,
Тьму затопила илистая мгла.
Запотевает, чей-то нос расплющив,
Прямоугольник чистого стекла.
Скрипящих фонарей панический полет
По черному пальто, по мертвому киоску,
По краю неба, голого, как лед.
А между ставнями оставлена полоска.
Да вряд ли кому в голову придет,
Приблизившись, увидеть стол и скатерть,
И маму у стола в коричневом халате,
И неподвижный теплый абажур.
Я неизвестно где. Я поздно прихожу.
Над раковиной тлело танго.
И, напряженнее травы,
Я был ковбоем и мустангом
И называл ее на «Вы».
Я был бесстрашен, словно турок,
Но от волненья сильно взмок,
И воробей клевал окурок
Растоптанный у стройных ног.
А там где на разлив давали,
И ситцы реяли, пьяня,
Друзья мои негодовали
И отрекались от меня.
Светлее стало и свежей
От дальнего гудка.
По стеклам верхних этажей
Поплыли облака.
Всю ночь оконный переплет
Бросал на стену тень,
Где мама валерьянку пьет,
Нашарив в темноте.
Я сунусь в темное окно
Повинной головой.
А дома спят давным-давно,
Не знают ничего…
«И вот рука, племянница души…»
И вот рука, племянница души,
Помягче ищет на столе карандаши
И натыкается на кисти винограда,
Который, как взволнованная речь,
Ни логики не может уберечь,
Ни привести грамматику в порядок…