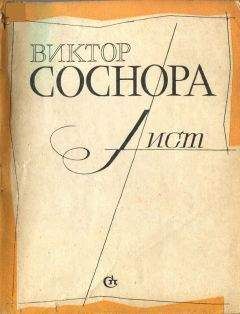"Гори, звезда моя, гори!"…
Гори, звезда моя, гори!
И полыхай притом.
Сто Сцилл и столько же Харибд
хромает за хребтом.
Там сто стоических пещер,
там стонет красота,
за тем хребтом, где вечер-червь
мне душу разъедал.
Он разъедал, да не разъел,
он грыз, да не загрыз.
Ни сам я и ни мой размер
не вышли из игры.
Не обрели обратных нот,
не хлынули под нож.
И если прославляли ночь,
то — ненавидя ночь.
Пусть вечер, как хирург угрюм,
хромает вдоль застав, —
моя звезда,
ты — не горюй,
гори,
моя звезда!
Солнце полное палило,
пеленая цитрус.
Нимфа Эхо полюбила
юного Нарцисса.
Кудри круглые. Красавец!
Полюбила нимфа.
Кончиков кудрей касалась,
как преступник нимба.
А Нарцисс у родника,
вытянут, как пика,
в отражение вникал
собственное пылко.
У Нарцисса отрешенье.
От себя в ударе,
целовал он отраженье,
целовал и таял.
Как обнять через полоску
дивное созданье?
Он страдал и не боролся
со своим страданьем.
— Я люблю тебя,—
качал он
головой курчавой.
— Я люблю тебя! —
кричала
нимфа от печали.
— Горе! — закричал он.
— Горе!
нимфа повторила.
Так и умер мальчик вскоре,
в скорби испарился.
Плачет нимфа и доныне.
Родники, долины,
птицы плачут, звери в норах,
розы, кипарисы.
Ведь не плачущих не много.
Есть. Но единицы.
С тех времен для тех, кто любит
и кого бросают,
запретили боги людям
громкие признанья.
Если невзначай польются
слезы от предательств,—
запретили боги людям
громкие рыданья.
Даже если под мечами —
помни о молчанье.
Ведь в любви от века к веку
так. Такой порядок.
Пусть не внемлет нимфа Эхо,
пусть не повторяет.
Бахчисарай!
Твой храбрый хан
в одно мгновенье обесценил
монеты римлян и армян
и инструменты Авиценны.
Он прибивал славян к столбу
гвоздями белыми Дамаска.
Отнюдь не мнительный Стамбул
молился узкоглазой маске.
Бахчисарай!
Твой хан Гирей
коварно и кроваво правил,
менял внимательно гарем
и слезы на металлы плавил.
Все — мало. Только власть любил.
Всех юношей страны для страху
убить задумал —
и убил;
оставил евнухов и стражу.
Под ритуальный лай муллы
взлетали сабли ястребами,
мигала кровь, как солнце мглы;
младенцев сабли истребляли.
Прошло еще двенадцать зим,
двенадцать лун ушло в преданье.
Хан постарел. Татарский Крым
жирел оружьем и плодами.
Прошло еще немало зла,
хан правил пир в стеклянных залах,
и к хану женщина пришла,
она пришла
и так сказала:
— Тебя никто не мог любить,
а я одна тебя любила,
а надо было бы убить;
прости меня, что не убила.
Повелевал ты, но — аллах! —
легко повелевать слезами,
я много лет таила страх;
я умираю,
и сказала.
Она была бела, как бред,
как струйка бедная.
Не знали
ни имени ее, ни лет;
ее в гареме не назвали.
Сам хан лекарствами поил…
Мурзы мигали:
невозможно —
старик наложницу любил,
которую не знал на ложе.
Она в субботу умерла.
Приплыл ясак. Носили яства.
Неслось на яликах «ура!»,
Задумчив был Гирей и ясен.
Он слуг судил — не осудил.
Молчали эшафоты Крыма.
Наложниц не освободил,
но и не пользовался ими.
Он совершил обряды сам,
сам в саван завернул, шатаясь,
надгробный камень сам тесал,
тесал, а евнухи шептались.
Он положил под камень клад,
и не было богаче клада,
он вырезал на камне глаз,
и слезы падали из глаза.
— Аллах! — сказал он. — Больше звезд
в моей судьбе уже не светит.
Да буду я фонтаном слез!
— Да будешь! — так аллах ответил…
Когда узнал Бахчисарай,
татары сети развивали.
К утру утих собачий лай,
все
очаги разогревали.
Торговец стриг своих овец.
У тиглей хлопотал кузнец.
Жемчуголов ловил свой перл.
Рабы свою баржу смолили.
Лишь муэдзин молитву пел
и поздравлял татар с молитвой.
Теперь — тебе: там, в мастерской, маски,
тайник и гипс и в светлячках воздух…
Ты Галатею целовал, мальчик,
ты, девочка, произнесла вот что:
«У нас любовь, а у него маски,
мы живы жизнью, он лишь труд терпит,
другую девушку — он мэтр, мастер,—
ему нетрудно, он еще слепит!»
Так лепетала ты, а ты слышал,
ты пил со мной и ел мои сласти,
я обучал тебя всему свыше, —
мой мальчик, обучи ее страсти!
Мой ученик, теперь твоя тема,
точнее тело. Под ее тогой
я знаю каждый капилляр тела,
ведь я — творец, а ты — лишь ты. Только
в твоей толпе. Теперь — твоя веха.
И — молотками весь мой труд, трепет,
и — молотками мой итог века!
«Ему нетрудно, он еще слепит!»
Теперь — толпе. Я не скажу «стойте».
Душа моя проста, как знак смерти.
Да, мне нетрудно, я слеплю столько..
Скульптуры — что там! — будет миф мести.
Теперь убейте. Это так просто.
Я только тих, я только в труд — слепо.
И если бог меня лепил в прошлом, —
ему нетрудно, он еще слепит!
Гамлет
Неуютно в нашем саду,
соловьи да соловьи.
Мы устали жить на свету,
мы погасим свечи свои.
Темнота, тихо кругом,
лает пес, теплится час.
Невидимка-ангел крылом
овевает небо и нас.
Неуютно в нашем дворце,
все слова, Гамлет, слова.
И сидит в вечном венце
на твоем троне сова.
Это рай или тюрьма?
Это блеск или луна?
В небесах нежная тьма,
Дух Святой, дьявол она.
Неуютно в наших сердцах,
целовать да целовать.
Уплывем завтра, сестра,
в ту страну, где благодать.
Офелия
Где страна, где благодать?
Благо дать — и умереть.
Человек — боль и беда.
Только — быть, и не уметь
умереть. Быть — целовать,
целый век — просто пропеть.
Целый век быть — благо дать,
целовать и не успеть
умереть. В нашем саду
лишь пчела с птицей поют,
лишь цветы, лишь на свету
паучки что-то плетут
да летят искры стрекоз,
ласки сна, тайны тоски.
В золотых зарослях роз
лепестки да лепестки.
Ты потрогай — рвется струна,
Аполлон требует стрел.
Этот знак «сердце-стрела»
устарел, брат, устарел.
Не струна, а тетива,—
или их, или себя!
Этот сад весь в деревах,
огнь и меч их истребят.
Гамлет