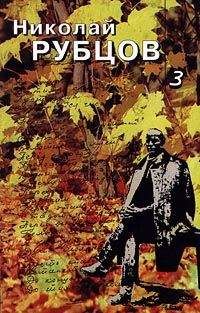А ты получил стихи «Первый поход»? А будет напечатано «Счастливого пути»?
Ответ пиши, конечно, не на госпиталь, на прежний адрес.
Ленинград, март 1960 года
Валя, привет, привет!
Давно, давно собирался написать тебе письмо, да все не мог собраться в силу своего бестолкового, неорганизованного образа жизни. К тому же я не получил ответа от тебя на первое свое письмо и поэтому предполагал, что и второе может остаться без ответа.
Уже больше трех месяцев живу в Ленинграде. Прописали все-таки, этот случай относится к числу исключительных, ибо здесь свято и железно чтут указание горисполкома не прописывать в городе граждан из-за города, тем более из других областей. Появись в городе Диосфен, даже Диосфен, — его все равно не прописали бы здесь ни в одной бочке: бочек хватает и в других городах.
Живу в общежитии, очень благоустроенном. Есть газ, есть паровое отопление, есть красный уголок с телевизором, с книгами и журналами и с симпатичными девушками, есть вестибюль с большим зеркалом напротив входа с улицы, с большим количеством столов и даже с цветами на них.
В комнате всегда почти тихо, как в келье. Живут здесь со мной еще три человека. Один — врач (к сожалению, гинеколог), любитель поговорить о стихах, в основном о стихах Надсона, хотя понимает в поэзии столько же, сколько лошадь в махровой ткани. Другой — инженер, полстолетний холостяк с капризным и придурковатым характером и, что хуже всего, с болезненной привычкой стонать, охать и кричать, совсем как филин, по ночам. А встанет с похмелья — лучше удирай из комнаты: стонет беспрерывно, орет, будто рожает <…> Он, к счастью, неразговорчивый и редко бывает дома. А придет — все что-то пишет, пишет. «Ну, — думаю, — какой умный человек!» Но когда однажды в разговоре он назвал глупым и некрасивым известное выражение «зубная боль в сердце» (помнишь, Горький, решив застрелиться, сказал, что виноват в этом философ, придумавший зубную боль в сердце?), так вот тогда я потерял всякий интерес к устройству мозга и души этого инженера.
Третий — за год до меня демобилизовавшийся моряк. На заводе он ударник. Дома — мой напарник по уничтожению пережитков прошлого, вернее, одного пережитка: водки. Но, сколько мы ее ни уничтожали, все равно в магазинах водки навалом. Так что наши перспективы в этом деле, увы, плачевные. Очень часто вечерами он уходит к соседке, в которую влюблен, иногда приводит ее в нашу комнату. Нежность свою к ней он выражает на удивление своеобразно: грязным пальцем тычет ей в нос и при этом блаженно улыбается. Еще у него есть странная привычка задавать наивные вопросы:
— Налей, пожалуйста, чаю.
— Какого чаю?
Или:
— Слыхал, Хрущев улетел в Индию?8
— Какой Хрущев?
Повторяю, в комнате у нас всегда тихо, зато в коридоре… Детей в нашем доме — как цыплят в инкубаторе. То соловьями заливаются (у многих свистульки), то слезами. И все прочее.
В городе весна. Давненько уже был сыгран ей подъем. Но она долго «тянулась» по подъему. Дрыхла, черт возьми, целый год, но, как недисциплинированный моряк, не захотела подняться сразу. За это была наказана внеочередными метелями… Теперь поняла свою вину и выполняет обязанности добросовестно.
Валя, прости, что-то я ударился в разглагольствования. Наверное, читаешь и думаешь: «Вот дурачина! Мелет всякое!» Можно всю эту мою «философию» перечеркнуть и сказать коротко, поговоркой: сухая ложка рот дерет! Стихи без жизни — именно сухая ложка!
Но перечеркивать я ничего, однако, не буду, поскольку некогда сызнова начинать письмо. Ты сам перечеркни, что тебе не нравится.
Пару слов о планах на будущее. Ох уж к черту планы! Их у меня вовсе нет. Просто не знаю, что мне делать. Начать учиться? Что ж, начну, закончу, допустим, институт, а там что? На пенсию будет пора! Мне кажется, что вместе с юностью (что было до службы) прошла у меня и вся жизнь, поскольку нет у меня теперь ни мечты, ни любви к какому-либо делу, как тогда. Я бездельник, хотя и не сижу без дела. Впрочем, во мне уже снова начинает пробуждаться интерес к морю, к работе на гражданских судах. Может, подамся в Архангельск. Но для начала хочу, как говорится, приодеться, купить наконец штатские портки и прочее…
Валек, дорогой, ты хоть ответь на этот раз. Пиши обо всем, что касается стихов (слава богу, я хоть стихи люблю и мне наплевать, если сам не научусь их писать. Стыдно лезть в поэзию со своими стихами, когда знаешь, что был Шекспир, Пушкин, вернее, когда знаешь, что есть Шекспир, Пушкин…). Пиши о себе, конечно. И обязательно, прошу тебя, пошли мне своих стихов.
Ну, жду! Напишешь?
Крепко, крепко, крепко жму руку.
Привет Юре Кушаку.
Николай Рубцов.
Мой адрес: г. Ленинград, ул. Севастопольская, д. 5, кв. 16.
Ленинград, март 1960 года
Уважаемый товарищ Гоппе!
Я получил Ваше письмо.
С удовольствием использовал бы возможность побывать на литконсультации, но, к сожалению, мне сейчас трудно выбрать для этого время.
Вы пишете, что на Вас странное впечатление произвело стихотворение «Воспоминание». А мне, хочу признаться, странным кажется Ваше впечатление. Что искусственного в том, что первые раздумья о родине связаны в моих воспоминаниях с ловлей налимов, с теми летними вечерами, какие описаны в стихотворении?
Я чувствую, что люблю свою деревню, реку, где можно ловить налимов, где полощется заря и отражаются кусты смородины, люблю все, что вижу вокруг, и, грешен, не подозревал, что эта любовь неестественна, поскольку она не связана с такими понятиями, как «целина», «спутник», «борьба за мир», «семилетний план»13. Правда, то была пора пятилеток и насаждения в засушливых районах сталинских, как их называли, лесополос. Но все равно это не имеет значения: внимательно слушать политинформации, читать газеты и работать я стал позднее.
Вы говорите: «Стихи очень традиционны». Согласен. Но этот грех наполовину не мой. Когда-то, читая стихи в газетах, я убедился и был убежден до последнего времени, что кроме поэзии так называемой «ура-патриотической» у нас никакая поэзия не принимается. Позднее я стал печататься в газете «На страже Заполярья» — газете Северного флота. Там я уж на себе испытал, что значит быть связанным строго заданными темами, не допускающими, так сказать, «художественной самодеятельности»: «Люблю море», «Хорошо служить на корабле», «Стучат сердца, как у героев», «Готов в строй!», «Любовь помогает служить моряку». Все авторы изощряются в выискивании оригинальных деталей, но главная-то мысль все равно не оригинальна, поскольку она газетная, казенная, как матросская шинель, выданная под расписку.
Не только там, и в некоторых других газетах шаблон, казенщина, можно сказать, узаконивается. После каждого напечатанного в такой газете стихотворения можно говорить другу: «Поздравь меня с законным браком!» Конечно же, были поэты и с декадентским душком. Например, Бродский. Он, конечно, не завоевал приза16, но в зале не было равнодушных во время его выступления.
Взявшись за ножку микрофона обеими руками и поднеся его вплотную к самому рту, он громко и картаво, покачивая головой в такт ритму стихов, читал:
У каждого свой хрлам!
У каждого свой грлоб!
Шуму было! Одни кричат:
— При чем тут поэзия?!
— Долой его!
Другие вопят:
— Бродский, еще!
— Еще! Еще!
После этого вечера я долго не мог уснуть и утром опоздал на работу, потому что проспал. Печальный факт тлетворного влияния поэзии, когда слишком много думаешь о ней, в отрыве от жизни, в отрыве от гражданских обязанностей! Я знал, что завтра на работу, но не придал этому особенного значения и, как видите, поэтическое настроение в момент пришло в противоречие с задачами семилетки, обратилось в угрызение совести. И в деньги, которые мог бы заработать, но не заработал.
Так и в стихах. Поэзия исчезает в них, когда поэт перестает чувствовать землю под ногами и уносится в мир абстрактных идей и размышлений. Как говорится, выше головы не прыгнешь. Поэзия тоже не может прыгнуть выше жизни. Что не жизнь, все смерть. А что мы, флотские поэты, делали? Часто делали? Не пытаясь даже присмотреться к ней, к жизни, не стараясь познать ее в конкретных ее подробностях, брали готовую, казенную мысль и терпеливо протаскивали ее сквозь весь свой лексикон, надеясь, что она, чужая мысль, обрастет новыми словами. Но, как ни трепыхайся, будешь все равно бессилен перед законами природы: чужая мысль — чужое слово, твоя мысль — твои слова! А твои мысли, твои слова только в твоей жизни. Коли есть талант, воспой не то, что тебе предлагают, а то, что видишь ты, что слышишь ты, что чувствуешь ты, чем живешь ты. И если ты духовно и идеологически в авангарде времени, никогда никакого отрыва от жизни не произойдет. Казенщина — это явно уход от жизни, отставание. Это не почва для поэзии. Это почва, по которой могут передвигаться лишь стихи-курицы, способные в лучшем случае лишь вспорхнуть на газетную страницу.