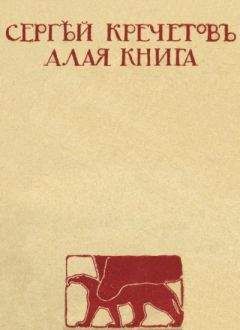10 мая 1920
Ударится в колокол птица
И мертвая упадет,
И ей отвечает важный,
Отдаленный глубокий звук,
Не так ли в это сердце,
Вспыхивающий при огне
Далеких пожаров и криков
И выстрелов ночных,
Теплый в воздухе со свистом
Стрижом играющий, взгляд
Ударяет — неистовой
Ласке таинственно рад, —
И вот он лежит, как птичка,
В моих жадных руках,
Как месяц, обходит кругом —
И тонет в моих глазах.
Над ним загорается важная
И темная мысль моя —
Ему отвечает нежная,
Жалобная свирель стиха.
4 марта 1920
От воздушного залива.
«Лира Лир»
Ты раздвигаешь золото алоэ,
Ты горишь улыбкой, ты —
В пляс цветающих плечей.
Ты бежишь в очи ключом студеным,
Замолкая тусклым блеском обломок речей.
Я — только дрозд журчливых слов потока,
Надо мной — безмолвится
В солнце горящий лист,
Я гляжу на праздник просторов Ориноко,
Где режет чистоту ласточки клич.
О, прозрачных столбов воздушных
Целящая пустыня,
Блаженных и одиноких слов про тебя
Милый танец солнца резвой пыли,
Сладкий, глубокий — как уста.
Нет! повторить ли очарованье,
Эти заливающие синью глаза,
И это море мира — мир и воля,
Хрустальный берег радужного холма.
Июль 1922. Москва
Константин Большаков, Сергей Бобров и др.
Пета. Первый сборник
ПѢТА
ПЕРВЫЙ СБОРНИКЪ
АЙГУСТОВЪ-АСѢЕВЪ. БОБРОВЪ-БОЛЬШАКОВЪ.
ЛОПУХИНЪ-ПЛАТОВЪ. ТРЕТЬЯКОВЪ-ХЛѢБНИКОВЪ.
ЧАРТОВЪ-ШИЛЛИНГЪ. ЮРЛОВЪ.
МОСКВА.
МСМХVІ
Изъ общаго количества экземпляровъ 200 нумерованныхъ.
Первые 50 экземпляровъ, нумерованные отъ I до L на плотной бумагѣ,
въ роскошной обложкѣ, по цѣнѣ 1 р. 50 к. за экземпляръ
и остальные 150 экземпляровь, нумерованные отъ 51 до 200,
на плотной бумагѣ по цѣнѣ 75 к.
Типографія Т/д. И. С. КОЛОМІЕЦЪ и К°,
Москва. Телеф. 2-14-81.
Тесты в орфографии оригинала.
Какъ будто человѣкъ зарѣзанный
На этой площади лежитъ!
А дрожь рукъ говоритъ, что нечего
Теперешнее ожидать.
Смѣхъ легче былъ бы неоконченъ,
Когда бы не тѣни цвѣтковъ,
Зарѣзанный убѣжить съ площади,
Голый бѣжа впередъ.
Противоположмая улица
Повлечетъ слѣдующій трупъ;
Такъ разорваны горла накрѣпко
На площади въ шесть часовъ.
Оторванъ, вслѣдъ тощимъ громадамъ,—
Руки костлявыя не я ли велъ!
Но бурь тихихъ взоръ, изломъ-камень
Схватился за меня.
Какъ зубъ вонзивъ въ отроги заміра,
Я вдыхалъ пронзительную ясь:
Но вотъ — и мнѣ стала площадь столбомъ.
Стѣной, параллельной мнѣ.
Но и тутъ былъ бы веселъ — площади круженье
И паденье прохожихъ въ условную бездну...
— Зачѣмъ бить, убить, напоминать,—
Изъязвлять, топить, душить
Безсоннаго — тутъ:
„— Ихъ тѣни благовонны
„Надъ Летою цвѣтутъ"?
Вскипаетъ застывшій черный шелкъ,
Спины песковъ рыжи;
Плетется мясной мухой паровозъ,
Прокусывая ленты дымковъ.
Сѣть степей. Молчите же вы —
И колесъ заштатные вопли.
Ивъ туманъ. Хижинъ рябь.
Сутолокъ устывшая марь.
Четыре шага до шелка,
Шелкъ несется, скрябаетъ берегомъ: —
Жестяное Азовское море.— Рычи,
Бѣлоязыкой волны жало,
Скребется просторъ и хлюпаетъ грузно,
Накаленъ взоръ и топь;
Звонитъ, бурчитъ оцинкованная волна
И жаломъ жерло желти лижетъ.
Тесты в современной орфографии.
Как будто человек зарезанный
На этой площади лежит!
А дрожь рук говорит, что нечего
Теперешнее ожидать.
Смех легче был бы не кончен,
Когда бы не тени цветков,
Зарезанный убежит с площади,
Голый бежа вперед.
Противоположная улица
Повлечет следующий труп;
Так разорваны горла накрепко
На площади в шесть часов.
Оторван, вслед тощим громадам, —
Руки костлявый не я ли вел!
Но бурь тихих взор, излом-камень
Схватился за меня.
Как зуб вонзив в отроги замера.
Я вдыхал пронзительную ясы
Но вот — и мне стала площадь столбом,
Стеной, параллельной мне.
Но и тут был бы весел площади круженье
И паденье прохожих в условную бездну…
Зачем бить, убить, напоминать,
Изъязвлять, топить, душить
Бессонного — тут:
«— Их тени благовонны
Над Летою цветут?»
Вскипает застывший черный шелк.
Спины песков рыжи;
Плетется мясной мухой паровоз.
Прокусывая ленты дымков.
Сеть степей. Молчите же вы
И колес заштатные вопли.
Ив туман. Хижин рябь.
Сутолок устывшая марь.
Четыре шага до шелка,
Шелк несется, скрябает берегом:
— Жестяное Азовское море. — Рычи,
Белоязыкой волны жало.
Скребется простор и хлюпает грузно.
Накален взор и топь;
Звонит, бурчит оцинкованная волна
И жалом жерло желти лижет.
Публикация Дмитрия Кузьмина
Вавилон : вестник молодой литературы. Вып. 2 (18). – М., 1993
Сергей Павлович Бобров (1889-1971) жил долго и несчастливо. Успел побывать участником кружка по изучению поэтического ритма под эгидой Андрея Белого, руководителем литературной группы "Центрифуга", в которой начал творческий путь Пастернак, автором исследований по теории и истории (Пушкин, Языков) русского стиха - и одной из первых в России антиутопий ("Восстание мизантропов"), крупным специалистом по экономической статистике, ссыльнопоселенцем под Кокчетавом (попал рано, в 1934-м, потому и уцелел), переводчиком Вольтера, Стендаля, Шоу, Диккенса, известным популяризатором математических знаний (до сих пор не потеряли значения его книги для детей "Волшебный двурог" и "Архимедово лето"), мемуаристом и даже "старейшим советским писателем" (в издательской аннотации к автобиографической повести "Мальчик"). Но прежде всего Сергей Бобров был выдающимся поэтом.
Начав с не лишенных изящества символистских опытов:
Мечта стоит, как облако, в эфире,
И страж-поэт пред ней влачит свой плен;
Не сосчитать прерывистых измен,
Не обуздать плененной духом шири... -
он довольно быстро расходится с Белым, которого вначале боготворил (письма Боброва Белому опубликованы К.Постоутенко в альманахе "Лица", 1993, вып.1), отдает дань ортодоксальному футуризму:
Барновинные дерева, заростинные,
Ручьеватые передождики, клюхоть... -
и уже к 1916 году приходит к вполне индивидуальному стилю, явному в третьей и последней поэтической книге "Лира лир" (1917). В последующее пятилетие - годы наиболее активного творчества - окончательно складывается поэтический облик Боброва, со свойственными ему легкой деформацией синтаксиса, исчезающей рифмой, своеобразной ритмикой на грани метрического и свободного стиха (а подчас, как, например, в "Силе мученья", позволяющей поставить вопрос о русском логаэде)... И в эти же годы Бобров постепенно исключается из литературы. "Я бился как рыба об лед, ... чувствовал себя никому не нужным, еле терпимым, презираемым, чувствовал, что все, на что я убил свою жизнь, было диким и бессмысленным фантазерством, все было без толку и невпопад," - напишет он об этом периоде своей жизни в 1940 году (РГАЛИ, ф.631 оп.15 ед.503 л.10-11).