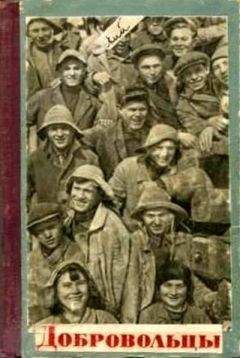Глава тридцать третья
«ХОЗЯЙСТВО КАЙТАНОВА»
Поправившись после второго раненья,
В песках и снегах, по разбитому следу,
Заволжьем, минуя пустые селенья,
Опять в Сталинград осажденный я еду.
Уже иноземцы в кольце, словно волки,
Вся в красных флажках наша карта штабная,
Но нашим гвардейцам, притиснутым к Волге,
По-прежнему трудно, и я это знаю.
Вот берег. И дальше нельзя на машинах:
Искромсанный лед, затонувшее судно,
И в дымке над кручею — город в руинах.
От края до края мертво и безлюдно.
Иду к переправе. Опять перестрелка.
Дубеет лицо от морозного ветра.
У берега столб и фанерная стрелка:
«Хозяйство Кайтанова — семьдесят метров».
Быть может, ошибка? Не верится даже,
Что встречу я здесь своего Николая.
Спускаюсь в какой-то невзрачный блиндажик,
Где в бочке поленья стреляют, пылая.
А друг мой лежит на березовых нарах,
Мучительный сон придавил его грузно.
Он, в шапке солдатской и в валенках старых,
Не сразу товарищем юности узнан.
Читатель подумает: нет ли обмана?
Поверить ли этому доброму чуду?
Как будто нарочно, как пишут в романах,
Встречаются эти ребята повсюду.
Я тоже смущен совпаденьем немного.
Но в нем ни фантазии нету, ни вздора.
Ходите не с краю, а главной дорогой —
И встретите всех, кто вам близок и дорог!
«Проснись, бригадир!» Он припухшие веки
Приподнял и мне улыбнулся устало,
Как будто мы только что виделись в штреке,
А лет этих огненных как не бывало.
«Здоров, сочинитель! И ты в Сталинграде?
Отлично! Садись. Раздевайся. Обедал?
Досталось, однако, всей нашей бригаде.
Но здесь нам должна улыбнуться победа».
«Ты чем тут командуешь?» — «Строил туннели.
А с августа послан держать переправу.
Представь, что недавно — на прошлой неделе —
Я видел вторично Уфимцева Славу.
Он ехал взглянуть на фашистского аса.
На сбитого летчика первого класса.
Птенцов обучать довелось ему в школе.
В глубоком тылу тяжело ему было,
Он рвался на фронт, как орел из неволи,
Но тут к нам война и сама подступила.
Узнать бы еще, где Алеша Акишин!
Должно быть, легка она — жизнь краснофлотца!
Я спрашивал Лелю: он пишет — не пишет?
Молчит, а сама, видно, ждет не дождется!»
«Ты что это, вправду? Ревнуешь, быть может?»
«Ничуть не ревную. К Алеше тем паче.
Тут случай особый, он труден и сложен,
Но Леля, как вспомнит Акишина, плачет.
Вот Лелины письма, читай, если хочешь,
У нас от товарищей нету секретов».
Рукой он разгладил измятый листочек,
В кармане его гимнастерки согретый:
«Коля! Мы как-то неправильно жили.
Мало смеялись и скупо дружили.
Это в разлуке особенно видно.
Не за тебя, за себя мне обидно.
Вот и сейчас написать я хотела,
Чтобы письмо голубком полетело,
А получается как-то коряво…
В полном порядке наш маленький Слава:
Есть из-за Камы две телеграммы.
Что у меня? Лишь тоска да работа.
Жмем под землей до десятого пота.
Но ничего, потруднее бывало —
Стройка не сразу росла-оживала.
Сам понимаешь, что сил маловато:
Женщины только в метро да девчата.
Вдовы, солдатки и брошенки вместе,
Жены и дочки пропавших без вести,
А из мужчин только дядя Сережа.
Все на фронтах, на войне, кто моложе.
Рядом со мною
В мокром забое
Девочки в тапочках —
Цыпки на лапочках.
Но к январю сорок третьего года
Путь дотянули до автозавода.
Поезд пустили! Не верили сами
В то, что такое построено нами.
Милый! Ну как там у вас, в Сталинграде?
Чаще пиши мне любви нашей ради!
Точка. Спешу. Начинается смена.
Крепко целую. Елена».
Сложил Николай этот листик заветный,
Потершийся сильно на линиях сгиба,
И, в печку подбросив хрустящие ветви,
Задумчиво вымолвил: «Леле спасибо
За веру в победу, которой так щедро
Она одарила меня в эту пору».
Мы вышли в поток сталинградского ветра,
Чертовски мешающего разговору.
Опять переправа под беглым обстрелом,
А надо идти мне участком опасным,
По черному льду, по настилам горелым,
Туда, где спасают мечту о прекрасном.
Прощаемся так, будто встретимся снова
Сегодня иль завтра, — беспечные люди,
Когда мы поймем, как разлука сурова
И, может случиться, что встречи не будет.
«Пока!..»
«До свидания!..»
Взмах рукавицы,
И я ухожу по плотам и понтонам
Туда, где разрушенный город дымится,
Где нам потрудней, чем врагам окруженным.
И в штабе дивизии, что над рекою
Врыт в кручу, — над ним, по бугру, оборона, —
К стене прислонясь, ощущаю щекою
Шершавое прикосновенье бетона.
И мне оно — как материнская ласка,
Как юности, дружбы и силы примета.
Куда ни пойду — всюду столб и указка:
«Хозяйство Кайтанова» рядышком где-то.
Глава тридцать четвертая
ПЕСНЯ ЛЕТЧИКА
За год переломный, за год сорок третий
Ни Колю, ни Славу я больше не встретил.
На Курской дуге, у днепровских излучин
Искал я их жадно, безвестьем измучен.
И в сорок четвертом искал их на Буге,
Мечтал их увидеть на Варте и Висле.
Ну где ж вы воюете, старые други?
Разлука рождает жестокие мысли.
Весна сорок пятого… Если вы живы,
То здесь, под Берлином, сражаться должны вы.
…Над местностью горной, равнинной, озерной,
В берлинской лазури пред штурмом последним
Летает весь день самолет наш дозорный,
Серебряный крестик над краем передним.
То в облако скроется, то возвратится,
Ведомый спокойной горячей рукою.
Давно перестал я завидовать птицам,
Завидовать летчикам — дело другое.
Работа мотора доносится слабо,
Кто там барражирует? Может быть, Слава?
Под ним расстилается карта живая,
Но кажется мне, что увидеть он может
Не только всю землю от края до края,
Но люди и судьбы видны ему тоже.
Вон там, на опушке, землянка сырая,
И если все видно насквозь с самолета,
Там немец на нарах лежит, умирая, —
Дыхания нет, лишь осталась икота.
Колючим осколком живот его вспорот,
От судорог он изогнулся упруго,
И видно еще сквозь расстегнутый ворот —
На бляхе овальной написано: «Гуго».
Знакомое имя! Забудем навеки.
А может, его пожалеем? Но позже!
Сомкнулись прозрачные желтые веки…
Как все мертвецы друг на друга похожи!
Что летчику видно еще? Переправа:
Наводят понтоны на речке немецкой.
С высот поднебесных сумеет ли Слава
В родное лицо командира вглядеться?
Спешит командир, выполняя заданье,
И так он отлично владеет собою,
Что здесь не заметят, какое страданье
Ему доставляет движенье любое.
Конечно, покинул он госпиталь рано,
Боясь опоздать к заключительной схватке.
Раскрылась и ноет полтавская рана,
И ноги от брестской контузии шатки.
Летает, летает наш «Лавочкин-пятый»,
Как будто качаясь на синих качелях,
И видно пилоту, как, сжав автоматы,
Эсэсовцы пленных выводят в ущелье.
Походкой неровною мимо «газовни»,
С землею и небом прощаясь навеки,
Идет наш знакомый — советский полковник,
А следом и Фриц, и французы, и греки.
За час до спасенья погибнуть так глупо,
Так страшно… Но если уж гибнуть, то с честью.
К расстрелу отобрана первая группа.
В ней немец и русский, пропавший без вести.
Глядят на людей вороненые дула.
Бессильно парит самолет в небосводе.
Земля под ногами трясется от гула —
Советские танки уже на подходе.
«Огонь!» И полковник движеньем последним
Собой заслоняет немецкого друга.
А мир наполняется громом победным —
То дизель-моторов могучая фуга.
Охранники мечутся, к лесу примяты,
Поняв, что уже не уйти от расплаты
Но Танин отец не поднимется больше:
К себе притянул он последнюю пулю,
Ценой его жизни спасенный подпольщик
Над ним как в почетном стоит карауле.
Но горя не видно, наверное, с неба,
Иначе бы летчик не выдержал муки
И танкам на помощь бы ринулся смело,
Раскинув сверкнувшие крылья, как руки.
А он все летает, а он все летает,
Как будто бы книгу вселенной читает.
Я был в это утро в частях сталинградских,
На временном их наблюдательном пункте:
Им маршал на сутки велел окопаться.
Змеятся окопы в рассыпчатом грунте.
Развернута станция наведенья,
При ней авиатор из Ставки главкома.
Смотри — самолетов мгновенные тени
Скользят по лицу, что нам очень знакомо.
Антенна бамбуком серебряным вздета,
Но нет от дозорного с неба ответа.
«Я — „Сокол“. Прием». Узнаю я пилота,
О нем написать бы особую повесть:
Земля не забыла его перелета —
Он с Чкаловым вместе летал через полюс.
«Как понял? Прием». Но молчит поднебесье.
«„Орел“, отвечайте, я — „Сокол“…» Нежданно
Возникла в наушниках легкая песня,
Над полем сраженья звучащая странно:
«До чего обидно, что я ласков не был
И не знал, что завтра улечу на фронт.
Мы с тобой сойдемся, как земля и небо,
Но не так-то близок общий горизонт».
«„Орел“, прекратите! Обследуйте зону.
Я петь запрещаю. Прием». Но оттуда,
Где солнце несет золотую корону,
Доносится песни веселое чудо:
«Почему молчали сомкнутые губы?
Впрочем, вероятно, ты была права.
Мы такие люди, оба однолюбы.
Нам даются трудно нежные слова».
Взбешен авиатор из Ставки главкома,
Грозит он пилоту лишением званий.
Но в голосе дальнем во время приема
Я слышу мелодию юности ранней:
«Легкие размолвки навсегда забыты,
Все у нас с тобою будет хорошо.
„Орел“ говорит. Справа два „мессершмитта“.
Снимаюсь с волны. На сближенье пошел»
На бой из-под задранной круто фуражки
Так страшно смотреть, аж по телу мурашки!
Беззвучная буря крутящихся точек,
И выстрелов пушечных нервные вспышки…
Опять узнаю я уфимцевский почерк —
Вокруг офицеры галдят, как мальчишки.
И падает «мессер», крутясь и пылая,
Эскадры Рихтгофена слава былая!
В зигзагах окопов победу пилота
Нестройным «ура» отмечает пехота.
По синим лампасам ладонями хлопнув,
Старик-авиатор вылазит на бруствер.
И видно, что он человек не окопный
И кое-что смыслит в воздушном искусстве.
«Полковника надо представить к награде,
Но пусть он поймет, что в бою не до песен.
Придется его, назидания ради,
На гауптвахту, да суток на десять».
Гремело за Одером выстрелов эхо,
Решались в сражении судьбы столетья.
Из штаба я к летчикам на ночь поехал
С надеждою Славу Уфимцева встретить.
Но здесь появленье мое неуместно:
В подвале разбитого бомбами зданья
Полковник Уфимцев сидит под арестом
За то, что он пел, выполняя заданье.