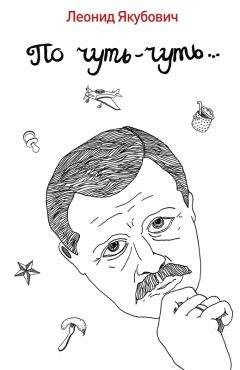Повернулся и пошёл от меня по траншее.
Вот, клянусь, прямо-таки видел, что он хихикает. По его спине я видел, что он хихикает! Хотя, черт его знает.
Я взял винтовку, поднял предохранитель, затвором дослал патрон в патронник и снова опустил предохранитель. Положил винтовку на бруствер. Достал пистолет из кобуры, тоже дослал патрон, поставил на предохранитель и положил пистолет перед собой на полочку.
Зачем-то потрогал гранаты.
Потом перечитал патроны в обоймах.
И мне вдруг стало неловко. Чего я суечусь-то? Я сунул пистолет в кобуру и задвинул её за спину.
Взял бинокль и стал осматривать свой сектор.
Так... Вон выступ... А где же кустик?.. А, вот он... Очень интересно. Откуда же они могут пойти, там и тропинки, вроде ни какой нет... Ладно, разберёмся...
Кто именно «они» я плохо себе представлял. И как это я их отличу, если это не «они», а, например, другие?
И я стал представлять себе «их».
В голове зрел образ бородатых мужиков на конях, в надвинутых на глаза мохнатых шапках, перепоясанных крест-накрест пулемётными лентами. С маузерами в деревянных кобурах, почему-то с противотанковыми гранатами за поясом и пулемётами в руках.
Нет, почему на конях, какие тут кони в горах. Бред.
Пешие все. В сапогах... Или даже, нет, в армейских ботинках... Нет, в кроссовках... А рядом навьюченные лошади. Почему нет...
Так, значит, вот они пошли... Вон из-за того камня... Интересно...
Я снял пластиковые крышечки с прицела, упёр приклад в плечо и прильнул к резиновому наглазнику.
Прицел был классный. С прицельной сеткой, дальномерной шкалой, с основным и дополнительным угольниками. Правда, дополнительный угольник мне лично был ни к чему. Стрелять на расстоянии больше 1000 метров я не собирался. Я и на пятьсот не собирался тоже. Так, метров на триста, не больше. Если что разгляжу, конечно.
В прицел всё выглядело совершенно не так. Выглядело всё конкретно и чётко.
Я положил палец на спусковой крючок и замер.
Вот они пошли, и тут я...
Нет, так воевать было крайне неудобно. Жутко мешал живот.
Я отложил винтовку, переложил всю свою «артиллерию» с полочки на бруствер, достал штык-нож и срезал им полочку эту к чёртовой матери, выкопав специальную выемку для живота.
Потом опять взял винтовку и прильнул к прицелу.
Ну, совсем другое дело! Всё, теперь пусть идут, я готов.
И тут мне в голову полезли видения. Вот они пошли, пальба, стрельба, все орут. Бах-тара-рах! Потом наши прилетели и разнесли их в в пыль.
Потом в отряде, прямо все подходят, жмут руку... Нет, почему это в отряде! В Ханкале, в Ханкале, в штабе ОГВ... Медаль... Нет, орден... Нет, звезду...
Я положил палец на спусковой крючок и прицелился. И очень хорошо представил себе, как из-за куста вышел человек. Я его даже почти увидел.
И какой-то холодок вдруг заполз мне под ложечку, стал подниматься вверх и сдавил горло.
Палец на крючке затёк и окаменел.
Я вдруг отчетливо понял, что не смогу выстрелить в человека.
Не смогу. Я никогда не стрелял в человека и понятия не имел, что при этом испытываешь, когда стреляешь первый раз, но я почувствовал, что не смогу. Не смогу и всё.
И я испугался.
Я никогда не испытывал такого страха. То есть такой категории страха. Это не было похоже на обычные человеческие боязни, это было гораздо сильнее и глубже. Нет, я не трясся в испуге и не покрывался мурашками, но у меня сосало под ложечкой, давило на грудь и я был мокрый как мышь, с головы до ног. Я вдруг совершенно отчётливо понял, что не смогу убить человека. Не смогу и всё. То есть вон там, в расщелине, метров за триста, если что-то мелькнёт, я выстрелю. Это точно. Слава Богу, восемь лет на стрельбище «Динамо», и хотя глаза не те, но то, что попаду в силуэт – факт, попаду. Но вот если ближе, если совсем рядом, если увижу лицо, я просто не смогу нажать на курок. Я очень хорошо представил – вот я, вот он у того камня, нет, даже ближе, у того кустика, пусть хоть какой – в шапке, в папахе, хоть в шляпе, хоть весь в пулемётных лентах, но я не смогу. Не смогу в него выстрелить. Если увижу лицо, глаза, не смогу и всё! Не от слабости своей, просто не смогу убить человека, пусть врага, пусть садюгу кровавого, но ведь всё равно человека, живого человека! И они пройдут через меня, и те, за моей спиной решат, что дедушка сбоил. Усрался дедушка, как они и думали. Гнилым оказался этот телевизионный урод, потому что они все там, гнилые абсолютно. А те, которые пройдут даже не рядом, даже не по мне, а просто сквозь меня, потому что для них я тоже, вроде как и не существую вовсе. Даже и не пристрелят, даже и не плюнут в мою сторону, просто даже и не взглянут, потому что для них такое же ничтожество, как для своих. Они пройдут сквозь меня, а я так и буду тут лежать в этом дурацком камуфляже и давить на спусковой крючок окаменевшим пальцем, не в силах согнуть его до конца.
Это было омерзительно страшно. Мне казалось, нет, я просто чувствовал, что мне в спину презрительно смотрят эти мальчики и этот усталый седой полковник, как будто они заранее предвидели, что будет, и мне было стыдно повернуть голову и посмотреть им в глаза.
Всякие там объяснения, что это вообще противоестественно – убивать, что я этого никогда не делал, тут не проходили. Здесь война и нечего распускать сопли по склону. Сам полез, значит делай дело и не гундось – никак не успокаивали. То есть умом я понимал, что надо собраться и перестать думать о ерунде, но тело никак не реагировало на все эти очень даже правильные рассуждения.
Я тряхнул головой, передёрнул плечами и повернулся.
Повернулся, чтобы объяснить, что зря они обо мне так, что это
ошибка, что всё будет в порядке, и что я, если что...
Ничего не изменилось. Припекало солнце, тени от облаков лежали на жухлой траве, местами покрытой остатками талого снега, полковник, как и прежде, сидел на склоне, положив на колени АКМ, солдаты шарили по траншее и никто, естественно, не смотрел в мою сторону. Все были заняты и я их не интересовал совершенно. То есть, на хрен я им был не нужен!
Это было даже как-то обидно. Я тут мучаюсь, переживаю, прикрываю, понимаешь, их задницы, а им плевать! Да если б не я... Да они бы тут без меня б... Ладно, еще поглядим...
Я сжал зубы и повернулся обратно.
Никакого страха не было. Вообще ничего не было. Я был полон героизма, и меня распирало от желания немедленно перебить всех, кто полезет здесь на склоне, вообще в горах, во всей стране и в мире. Мне не хватало воздуха и вооружения. Что это такое, в самом деле, дали какую-то дурацкую винтовку. Что я тут навоюю этот пукалкой? Мне бы сюда пулемёт или даже два. Два «Максима». Да, два! Один тут, а другой там. И я бы от одного к другому, пригнувшись... А кругом всё в дыму... Пальба, стрельба... Они лезут со всех сторон, а я из пулемёта та-та-та-та-та-та!..
И опять Георгиевский зал, нет Красная площадь... И мавзолей... И я тут с повязкой на голове... И обязательно рука раненная на перевязи... Справа Путин, слева Ельцин... Нет, слева Путин... И оба цепляют мне звёзды Героя... Прямо в две руки... И потом парад... Да, да, именно...
Пара-ад!! Смирно!!.. На одного линейного дистанция-а!!.. Первый взвод прямо... остальные на пра... во!! Ша-агом... марш!!.. И вся площадь – Ура-а-а!!!
Я вздрогнул и зажал себе рот. Чёрт, разорался тут. Еще услышит кто, стыда не оберешься. Я покосился по сторонам. Рядом никого не было. Вот ведь глупость какая! Прямо мальчишество, честное слово. Взрослый человек, а мысли, как у дитя малого. Тоже мне – «Анка-пулемётчица»! Всё лежи себе, пока не сменят.
Всё же непонятно, как же эти мальчики у меня за спиной? Как они первый раз? Вот вопрос. Из «учебки» этого не вынесешь. Мама с папой тоже убивать не научат. Не понимаю. Не могу понять. Как это восемнадцатилетний паренёк кому-то из автомата в голову... или в живот... Что его заставило переступить через эту черту, что? И что он потом чувствовал?.. Не понимаю...
Потом я стал вспоминать, что говорил отец о том, о своем первом бое, и первой рукопашной.Когда от полного недоумения, через страх в клокочущую ярость и потом вдруг в восторженное спокойствие. И повинуясь только высокой музыке боя, даже неумелый боец, впервые попавший в этот ад кромешный, вдруг начинает видеть не только, что творится у него под носом, а всё впереди и дальше. И периферийным зрением, что справа и слева от него, и стреляет куда надо, и перемещается, если надо, и держится и час, и два, и сутки, и трое. Потом, правда, ничего не помнит. И если спросят, ну как ты там, пожмёт плечами, дескать, сам не знаю.
От всего этого в горле пересохло окончательно. Воду из фляжки я давно выпил.
Поэтому, отодвинув винтовку в сторону, я вывалился из траншеи, прополз шагов пять и стал есть белый, белый и какой то сладкий снег.
Потом заполз обратно в траншею. Зачем ползал, тоже не объяснимо. Мог пройти спокойно, нет, пополз...