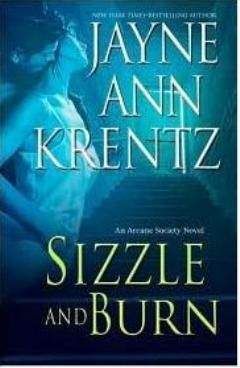Где Петр собирал потешные полки,
Где управдом Хрущев унизил потолки,
В Преображенском я кончаю дни свои,
И никуда меня отсюда не зови.
Не будет ничего, не надо никогда,
Стоит перед окном апреля нагота,
У входа в магазин так развезло газон,
Когда я подхожу, знакомый фармазон
Спешит мне предложить вступить в триумвират.
Выходит, надо жить, не стоит умирать.
Так сыро, так темно, так скоро жизнь прошла…
Когда случилось все, которого числа?
А свет под фонарем лупцует по глазам,
И поздно злобный вой отправить небесам.
Когда петровский флот со стапеля сходил,
И наливался плод от европейских жил,
Державин громоздил, а Батюшков хандрил,
Какой подземный ход тогда ты проходил?
Преображенец прав, а правнук так курнос,
И, верно, Летний сад за двести лет подрос.
От замка напрямик не разгадать Москвы
И не смягчить владык обиды и молвы,
Когда Ильич грузил в вагоны совнарком,
Когда Сергей завис в петле над коньяком,
Когда генсек звонил Борису вечерком,
Ты отвалил уже свой черноземный ком?
Над люлькою моей приплясывал террор,
Разбился и сгорел люфтваффе метеор,
Скользил через мосты полуживой трамвай,
Шел от Пяти Углов на остров Голодай.
С площадки я глядел, как плавится закат —
Полнеба — гуталин, полнеба — Мамлакат,
Глухая синева, персидская сирень
И перелив Невы, вобравшей светотень.
Я на кольце сходил, где загнивал залив,
Где выплывал Кронштадт, протоку перекрыв,
И малокровный свет цедил Гиперборей,
Тянуло сквозняком от окон и дверей,
Прорубленных моей империей на вест,
Задраенных моей империей на весь
Мой беспробудный век. На мелководье спит,
Я видел, кит времен. Над ним Сатурн висит.
На бледных облаках тень тушью навела
Монгольскую орду и кровью провела
Кривой меридиан от рыла до хвоста…
Так, значит, все, что есть и было, — неспроста?
И леденел залив под утренней звездой,
И новый черновик засеял лист пустой,
И проступал на нем чертеж или чертог…
И кто-то мне сказал: «итак» или «итог».
Но я не разобрал, хотелось пить и спать,
Помалкивала сталь, и надо было ждать
На утреннем кольце. Ждать — это значит жить,
Представить, предсказать, прибавить, отложить…
Ты знаешь, но молчишь, — заговори, словарь.
Я сам себе никто, а ты всему главарь,
И ты, моя страна, меня не забывай,
На гиблом берегу — пришли за мной трамвай,
Квадригу, паровоз и, если надо, танк,
И двинем на авось с тобой, да будет так!
В Преображенском хлябь, размытая земля…
А ну, страна, ослабь воротничок Кремля.
Как дети, что растут в непоправимом сне,
Откроем мы глаза в совсем иной стране.
Там соберутся все, дай Бог, и стар и млад,
Румяная Москва и бледный Ленинград,
Князья Борис и Глеб, древлянин и помор,
Араб и печенег, балтийский военмор,
Что разогнал Сенат в семнадцатом году,
И преданный Кронштадт на погребальном льду.
Мы все тогда войдем под колокольный звон
В Царьград твоей судьбы и в Рим твоих времен!
В столетнем парке, выходящем к морю,
Была береговая полоса
Запущена, загрязнена ужасно,
Во-первых, отмель состояла больше
Из ила, чем из гальки и песка,
А во-вторых, везде валялись доски,
И бакены измятые, и бревна,
И ящики, и прочие предметы
Неясных материалов и названий.
А в-третьих, ядовитая трава
Избрала родиной гнилую эту почву.
И видно, что неплохо ей жилось:
Такая спелая, высокая, тугая
И грязная, она плевала вслед
Какой-то слизью, если на нее
Вы неразборчиво у корня наступали.
В-четвертых же… но хватит, без четвертых.
Так вот сюда мы вышли ровно в час,
Час ночи бледно-серой над заливом,
В конце июля в тот холодный год,
Когда плащей мы летом не снимали.
Я помню время точно, потому что
Стемнело вдруг, как будто в сентябре.
Я поглядел на смутный циферблат
И убедился — час, и глянул в небо.
Оно закрылось необъятной тучей,
Столь равномерной, тихой и глубокой,
Что заменяла небосвод вполне.
И только вдалеке за островами,
За Невкой и Невой едва светился
Зубчатый электрический пожар.
Взлетела сумасшедшая ракета,
Малиновая, разбросалась прахом,
Погасла, зашипела. И тогда
Я спутницы своей лицо увидел
Совсем особо, так уж никогда,
Ни раньше, и ни позже не случалось.
Мы были с ней знакомы год почти
И ладили зимою и весною,
А летом что-то изводило нас.
Что именно? Неправда, пустозвонство
Паршивых обещаний и признаний
За рюмочкой, игра под одеялом,
Растрепанная утренняя спешка,
И все такое. Вышел, значит, срок.
И значит, ничего нам не осталось.
Мы знали это оба. Но она,
Конечно, знала лучше, знала раньше.
А мне всего лишь представлялся год
Душистой лентой нежной женской кожи.
Начало ленты склеено с концом,
И незачем кольцо крутить по новой.
Но я хотел бы повернуть к ракете
Малиновой, взлетевшей над заливом.
Красный блеск лишь на минуту
Осенил пространство, и я заметил все:
Ее лицо, персидские эмалевые губы,
Широкий носик, плоские глазницы
И темно-темно-темно-синий взгляд,
Который в этом красном освещенье
Мне показался не людским каким-то…
Прямой пробор, деливший половины
Чернейших, лакированных волос,
Порочно и расчетливо сплетенных косичками.
Я что-то ей сказал. Она молчала.
— Ну, что же ты молчишь? — Так, ничего, —
Она всегда молчала. Конечно, не всегда.
Но всякий раз, когда я ждал ответа,
Пустячной шутки, вздора и скандала, —
Она молчала. Боже, боже мой,
Какая власть была в ее молчанье,
Какое допотопное презренье
К словам и обстоятельствам. Она
Училась даже в неком институте
И щеголяла то стишком, то ссылкой
На умные цитаты. Но я отлично понимал:
Каким-то чудом десять тысяч лет
Словесности, культуры, рефлексии
Ее особы даже не коснулись.
И может, только клинописью или
Халдейскими какими письменами
В библейской тьме, в обломках Гильгамеша
Очерчен этот идеальный тип
Презрительной и преданной рабыни.
Но преданной чему? Служить, гадать
Но голосу, по тени в зрачках, по холоду руки,
Знать наперед, что ты еще не знаешь.
Готовой быть на муку, на обиду
И все такое ради самой бедной,
А может, и единственно великой
Надежды, что в конце концов она
Одна и нету ей замены.
А прочее каприз и ностальгия…
И все же презирающей тебя за все,
Что непонятно ей, за все,
Что ни оскал, ни власть, ни страсть,
Ну и так далее…
Я как-то заглянул в наполовину
Книжный, наполовину бельевой комод —
Вот полочка: стишки и детективы,
Два номера «Руна» и «Аполлона»,
«Плейбой» и «Новый мир» и Баратынский,
Тетради с выписками, все полупустые,
Пакеты от колготок, прочий хлам,
Измятая Махаева гравюра
(Конечно, копия) «Эскадра на Неве»,
Слепая «Кама-сутра» на машинке
И от косметики бесчисленные гильзы,
Весь набор полинезийского, парижского дикарства.
Не знаю — капля ли восточной крови,
Виток биологический в глубины дикарские?
А может, что иное? Как применялась
К нашей тихой жизни, как понимала,
Что она неоценима? И в лучшие минуты
В ней сквозили обломки критских ваз,
Помпейских поз, того, что греки знали
Да забыли, что вышло из прапамяти земли,
Из жутких плотоядных мифологий, из лепета
И силы божества, смешавшего по равной доле
Сладчайшей жизни и сладчайшей смерти, —
Того, что может плоть, все заменяя —
Дух и сознанье, когда она еще не растлена,
Не заперта в гареме и подвале,
А есть опора тайны и искусства,
И ремесла и вдаль бегущих дней.
Отсюда, верно, и пошла душа…
А через час была еще ракета,
Зеленая. Должно быть, забавлялись
В яхт-клубе, что на стрелке, в самой дельте.
И вот подул Гольфстрим воздушный,
Распалась туча, и стало,
Как положено, светло в такую ночь.
Мы все еще сидели на скомканных плащах
Среди всего, что намывают море и река,
И молчаливая молочная волна
Подкатывалась, шепелявя пеной.
Проплыл речной трамвай, за ним байдарка,
Две яхты вышли — «звездный» и «дракон»[16], —
Залив зарозовел, и день настал.
Проехало такси по пляжу, колеса увязали,
Интуристы подвыпившие подкатили скопом,
Держа за горлышко священные сосуды
С «Московской» и «Шампанским», загалдели. —
Нам в центр, водитель. До Пяти Углов.
Прощай, до смерти не забыть тебя,
Как жаль, что я не Ксеркс и не Аттила,
И даже не пастуший царь, что взял бы
Тебя с собой.
Прощай, конец,
Но помню, помню, помню,
Как вечно помнит жертвенник холодный
Про кровь и пламя, копоть, жир, вино,
Про уксус, мякоть и руно, про ярость
И силу и последний пир…
Уже остывший круглый камень,
На котором ютились духи ночи до утра.