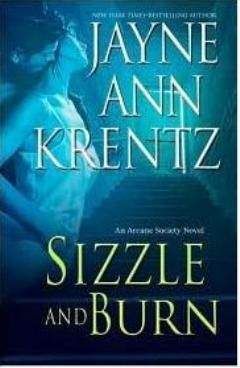Я двадцать лет с ним прожил через стенку
в одной квартире около Фонтанки,
за Чернышевым башенным мостом.
Он умер утром, первого числа…
Еще гремели трубы новогодья,
последнее шампанское сливалось
с портвейном в измазанных стаканах,
кто полупил, кто полуспал, кто тяжко
тащился по истоптанному снегу…
А я был дома, чай на кухне пил —
и крик услышал, и вбежал к соседу.
Вдова кричала… Мой сосед лежал
на вычурной продавленной кровати
в изношенной хорьковой телогрейке
и, мертвый, от меня не отводил
запавшие и ясные глаза…
Он звался Александр Кузьмич Григорьев.
Он прожил ровно девяносто два.
А накануне я с ним говорил,
на столике стоял граненый штофчик,
и паюсной икры ломоть на блюдце,
и рыночный соленый огурец.
Но ни к чему сосед не прикоснулся.
«Глядеть приятно, кушать — не хочу, —
сказал он мне. — Я, Женя, умираю,
но эту ночь еще переживу».
«Да что вы, что вы! — закричал я пошло. —
Еще вам жить да жить, никто не знает…»
«Да тут секрета нет, в мои года», —
ответил он, ко мне придвинул рюмку…
Я двадцать лет с ним прожил через стенку,
и были мы не меньше чем родня.
Он жил в огромной полутемной зале,
заваленной, заставленной, нечистой,
где тысячи вещей изображали
ту Атлантиду, что ушла на дно.
Часы каретные,
настольные,
стенные,
ампирные литые самовары,
кустарные шкатулки, сувениры
из Порт-Артура, Лондона, Варшавы
и прочее. К чему перечислять?
Но это составляло маскировку,
а главное лежало где-то рядом,
запрятанное в барахло и тряпки
на дне скалоподобных сундуков.
Григорьев был брильянтщиком —
я знал давно все это. Впрочем,
сам Григорьев и не скрывался —
в этом вся загадка…
Он тридцать лет оценщиком служил
в ломбарде, а когда-то даже
для Фаберже оценивал он камни.
Он говорил, что было их четыре
на всю Россию: двое в Петербурге,
один в Москве, еще один в Одессе…
Учился он брильянтовому делу
когда-то в Лондоне, еще мальчишкой,
потом шесть лет в Москве у Костюкова,
потом в придворном ведомстве служил —
способности и рвенье проявил,
когда короновали Николая
(какие-то особенные броши
заказывал для царского семейства),
был награжден он скромным орденком…
В столицу перевелся, там остался…
Когда же его империя на дно переместилась,
пошел в ломбард и службы не менял.
Но я его застал уже без дела,
вернее, без казенных обстоятельств,
поскольку дело было у него.
Но что за дело, мудрено понять.
Он редко выходил из помещенья,
зато к нему все время приходили,
бывало, что и ночью, и под утро,
и был звонок условный (я заметил):
один короткий и четыре длинных.
Случалось, двери открывал и я,
но гости проходили как-то боком
по голому кривому коридору,
и хрена ли поймешь, кто это был:
то оборванец в ватнике пятнистом,
то господин в калошах и пальто
доисторическом, с воротником бобровым,
то дамочка в каракулях, то чудный
грузинский денди… Был еще один,
пожалуй, чаще прочих он являлся.
Лет сорока пяти, толстяк, заплывший
ветчинным нежным жиром, в мягкой шляпе,
в реглане, с тростью. Веяло за ним
неслыханным чужим одеколоном,
некуреным приятным табаком.
Его встречал Григорьев на пороге
и величал учтиво: «Соломон Абрамович…»
И гость по-петербургски раскланивался
и ругал погоду…
Бывал еще один:
в плаще китайском, в начищенных ботинках,
черной кепке, в зубах окурок «Беломора»,
щербатое лицо, одеколон «Гвардейский».
Григорьев скромно помогал ему раздеться,
заваривал особо крепкий чай…
Был случай лет за пять до этой ночи:
жену его отправили в больницу,
вдвоем остались мы. Он попросил
купить ему еды и так сказал:
«Зайдешь сначала, Женя, к Соловьеву[17],
потом на угол в рыбный, а потом
в подвал на Колокольной. Скажешь так:
„Поклон от Кузьмича“. Ты не забудешь?» —
«Нет, не забуду».
Был я поражен.
Везде я был таким желанным гостем,
мне выдали икру и лососину,
салями и охотничьи сосиски,
телятину парную, сыр «Рокфор»,
мне выдали кагор «Александрит»,
который я потом нигде не видел,
и низкую квадратную бутылку
«Рябина с коньяком», и чай китайский…
Все это так приветливо, так быстро,
и приговаривали: «Вот уж повезло —
жить с Кузьмичом… Поймите, что такое,
старик великий, да, старик достойный…
Уж вы похлопочите, а за ним уж не заржавеет…»
О чем они? Не очень я понимал…
Он сам собрал на стол на нашей кухне,
поставил он поповские тарелки,
приборы Хлебникова серебра…
(Он кое-что мне объяснил, и я немного
разбирался, что почем тут.)
Мы выпили по рюмочке кагора,
потом «рябиновки» и закусили…
Я закурил, он все меня корил
за сигареты: «Вот табак не нужен.
Уж лучше выпивайте, дорогой».
Был летний лиловатый нежный вечер,
на кухне нашей стало темновато,
но свет мы почему-то не включали…
«Вы знаете ли… — Он всегда сбивался,
то „ты“, то „вы“, но в этот раз на „вы“. —
…Вы знаете ли, долго я живу,
я помню Александра в кирасирском
полковничьем мундире, помню Витте —
оценивал он камни у меня.
Я был на коронации в Москве,
я был в Мукдене по делам особым,
и в Порт-Артуре, и в Китае жил…
Девятое в помню января,
я был знаком с Гапоном, так, немного…
Мой брат погиб на крейсере „Русалка“.
Он плавал корабельным инженером,
мой младший брат, гимназию он кончил,
а я вот нет — не мог отец осилить,
чтоб двое мы учились. А когда-то
Викторию я видел, королеву,
тогда мне было девятнадцать лет.
В тот год, вот благородное вам слово,
я сам держал в руках Эксцельсиор…[18]
Так я о чем? В двадцать шестом году
я был богат, имел свой магазинчик
на Каменноостровском, там теперь химчистка,
и даже стойка та же сохранилась —
из дерева мореного я заказал ее,
и сносу ей вовек не будет…
В тридцать втором я в Смольном побывал.
Сергей Мироныч вызывал меня,
хотел он сделать женщине подарок…
Вникал я в государственное дело…
Куда все делось? Был налажен мир,
он был устроен до чего толково,
держался на серьезных людях он,
и не было халтуры этой… Впрочем,
я понимаю, всем не угодишь,
на всех все не разделишь, а брильянтов —
хороших, чистых, — их не так уж много.
А есть такие люди — им стекляшка
куда сподручней… Я не обижаюсь,
я был всегда при деле. Я служил.
В блокаду даже. Знаете ль, в блокаду
ценились лишь брильянты да еда.
Тогда открылись многие караты…
В сорок втором я видел эти броши,
которые мы делали в десятом
к романовскому юбилею.
Так-с!
Хотите ли, дружок, прекраснейшие запонки,
работы французской, лет, наверно, сто им…
Я мог бы вам их подарить, конечно,
но есть один закон — дарить нельзя.
Вы заплатите сорок пять рублей.
Помяните потом-то старика…»
Я двадцать лет с ним прожил через стенку,
стена, нас разделявшая, как раз
была не слишком, в общем, капитальной —
я слышал иногда обрывки фраз…
Однажды осенью, глухой и дикой,
какой бывает осень в Ленинграде,
явился за полночь тот самый, с тростью,
ну, Соломон Абрамыч, и Григорьев
его немедленно увел к себе.
И вдруг я понял, что у нас в квартире
еще один таится человек.
Он прячется, наверное, в чулане,
который был во время о́но ванной,
но в годы пятилеток и сражений
заглох и совершенно пустовал.
Мне стало жутко, вышел я на кухню
и тут на подоконнике увидел
изношенную кепку из букле.
Тогда я догадался и вернулся
и вдруг услышал, как кричит Григорьев,
за двадцать лет впервые он кричал:
«Где эти камни? Мы вам поручали…»
И дальше все заглохло, и немедля
загрохотал под окнами мотор.
Вдруг появилась женщина без шубы,
та самая, что в шубке приходила,
она вбежала в комнату соседа,
и что-то там немедля повалилось,
и кто-то коридором пробежал,
подковками царапая паркет,
и быстро все они прошли обратно.
Я поглядел в окно, там у подъезда
качался стосвечовый огонек
дворовой лампочки. Я видел, как отъехал
полузаметный мокренький «Москвич»,
куда толстяк вползал по сантиметру…
Вы думаете, он пропал?
Нисколько.
Он снова появился через год.
………………………………………
И вот в Преображенском отпеванье.
И я в морозный лоб его целую
на Сестрорецком кладбище. Поминки.
Пришлося побывать мне на поминках,
но эти не забуду никогда.
Здесь было не по-русски тихо,
по-лютерански трезво и толково,
хотя в достатке крепкие напитки
собрались на столе.
Среди закусок
лежал лиловый плюшевый альбом —
любил покойник, видимо, сниматься.
На твердых паспарту мерцали снимки,
картинки Петербурга и Варшавы,
квадратики советских документов…
Здесь был Григорьев в бальной фрачной паре,
здесь был Григорьев в полевой шинели,
здесь был Григорьев в кимоно с павлином,
здесь был Григорьев в цирковом трико…
Вот понемногу стали расходиться,
и я один, должно быть, захмелел,
поцеловал вдове тогда я руку,
ушел к себе и попросил жену
покрепче приготовить мне чайку.
Я вспомнил вдруг, что накануне этих
событий забежал ко мне приятель,
принес журнал с сенсацией московской,
я в кресло сел, и отхлебнул заварки,
и развернул ту дьявольскую книгу,
и напролет всю ночь ее читал…
Жена спала, и я завесил лампу,
жена во сне тревожно бормотала
какие-то обрывки и обмолвки,
и что-то по-английски, ведь она
язык учила где-то под гипнозом…
И вот под утро он вошел ко мне,
покойный Александр Кузьмич Григорьев,
но выглядел иначе, чем всегда.
На нем был бальный фрак,
цветок в петлице,
скрипел он лаковыми башмаками,
несло каким-то соусом загробным
и острыми бордельными духами.
И он спросил: «Ты понял?» Повторил:
«Теперь ты понял?» — «Да, теперь, конечно,
теперь уж было бы, наверно, глупо
вас не понять. Но что же будет дальше?
И вы не знаете?» — «Конечно, знаю,
подумаешь, бином Ньютона тоже!» —
«Так подскажите малость, что-нибудь!» —
«Нельзя подарков делать, понимаешь?
Подарки — этикетки от нарзана.
Ты сам подумай, только не страшись».
Жена проснулась и заснула снова,
прошел по подоконнику дворовый,
немного мной прикармливаемый кот,
он лапой постучал в стекло,
но так и не дождался подаянья,
и умный зверь немедленно ушел.
Тогда я понял: все произошло,
все было и уже сварилась каша,
осталось расхлебать все, что я сунул
в измятый кособокий котелок.
В январский этот час я знал уже,
что делал мой сосед и кто такие
оплывший Соломон в мягчайшей шляпе,
кто женщина в каракулевой шубе
и человек в начищенных ботинках,
зачем так сладко спит моя жена,
куда ушел мой кот по черным крышам,
что делал в Порт-Артуре, Смольном,
на Каменноостровском мой брильянтщик,
зачем короновали Николая,
кто потопил «Русалку», что задумал
в пустынном бесконечном коридоре
отчисленный из партии товарищ,
хранящий браунинг в чужом портфеле…
И я услышал, как закрылась дверь.
«Григорьев! — закричал я. —
Как мне быть?» — «Никак, все так же,
все уже случилось. Расхлебывай!»
И первый луч рассвета
зажегся над загаженной Фонтанкой.
«Чего ж ты хочешь, отвечай, Григорьев?!» —
«Хочу добра! — вдруг прокричал Григорьев. —
Но не того,
что вы вообразили, —
совсем иного.
Это наше дело.
Мы сами все затеяли когда-то,
и мы караем тех, кто нам мешает.
По-нашему все будет все равно!» —
«Так ты оттуда? Из такой дали?» —
«Да, я оттуда, но и отовсюду…»
И снова постучал в окошко кот,
я форточку открыл, котлету бросил…
И потому что рассвело совсем,
мне надо было скоро собираться
в один визит, к одной такой особе.
Напялил я крахмальную рубашку,
в манжеты вдел запонки,
что продал мне Григорьев,
и галстук затянул двойным узлом…
Когда я вышел, было очень пусто,
все разошлись с попоек новогодних
и спали пьяным сном в своих постелях,
в чужих постелях,
на вагонных полках,
в подъездах и отелях, и тогда
Григорьева я вспомнил поговорку.
Сто лет назад услышал он ее,
когда у Оппенгеймера в конторе
учился он брильянтовому делу.
О, эта поговорка ювелиров,
брильянтщиков, предателей,
убийц из-за угла и шлюх шикарных:
«Нет ничего на черном белом свете.
Алмазы есть. Алмазы навсегда!»