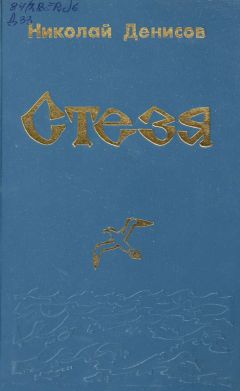Экватор
Как будто парит радиатор,
И в мареве влажный рассвет.
В семь тридцать проходим экватор,
Как жалко, что веничка нет.
На зыби качает, как в зыбке,
Как золотом зыбь залита,
Как пули, крылатые рыбки
Отстреливают от борта.
Зенит всепланетного лета!
И требует дани Нептун.
Бросаю я за борт монеты
Горячей страны Камерун
.
И бог переводит дыханье,
Он тоже сомлел от жары,
Но, будто искусный механик,
Он держит на марке пары.
А солнце, как сваркою, жарит –
В порыве своем трудовом,
На стыке земных полушарий
Работает огненным швом.
1988
О Фрегат летит за горизонт...
Л. Вьюнник
Белый лайнер в ночи иль баржонка,
Или танкер в надменной красе?
Да, с романтикой здесь напряженка,
Даже звезды подсчитаны все.
Отвыкает душа от полета,
Навязали и ей ремесло.
Если гимны поют хозрасчету,
Как подняться душе на крыло?
Но на траверзе Нового Света,
В серенадах бразильских цикад –
Так понятны мне грезы поэта:
Над волнами летящий фрегат.
Вот он с грузом какао и лавра
Вновь возник из тропической тьмы –
Под созвездием Альфы Центавра,
На два румба правее Кормы.
1988
Разгрузка в Рио-де-Жанейро
Вот и Рио... Огни на волнах.
Звезды в небе, как острые шильца.
Как положено, в белых штанах
Поднимаются на борт бразильцы.
С упоеньем играю строкой:
Кабальеры, мужчины, сеньоры!
Дел с разгрузкой – денечек какой,
На неделю огня и задора.
Как-то сразу заполнили ют:
Груз – на берег, и деньги – на бочку
Вот уж стропы, как струны поют,
Извиняют расхожую строчку.
Дело сделано. В путь, капитан!
Потрудились ребята на диво.
Да и сам я, пройдя океан,
Пофланировал в улочках Рио.
Над Бразилией тишь, благодать.
Южный тропик сияет у трапа.
Можно ль лучшего в жизни желать,
Если Бендера вспомнить Остапа?
1988
На кругу танцует дева,
Кастаньеты: стук да стук!
Чуден порт Монтевидео!
Но крепись, душа и тело,
Мне нельзя на этот круг.
Где мы только не бывали,
Знали адовы круги,
Здесь же – «облико морале» –
Закружиться в карнавале,
Даже думать не моги.
Не про нас мониста, бусы,
Звон веселых кастаньет.
Моряку с «эльбарко русо»[7]
Разводить нельзя турусы.
Вот бы по боку запрет!
Я б такое ей сказал,
Нашу удаль показал
И на пользу перестройки
Ряд контактов завязал.
Все впустую – взоры, взгляды,
От тоски в глазах темно.
Что ж, пойду поем осады[8],
Можно десять порций кряду,
Это нам разрешено.
Выйду к ветреному молу –
Остудить немного кровь.
И – в каюту, Вечер долог,
И залью там кока-колой
Уругвайскую любовь.
1989
Тусклый глянец пистолей и карт,
Плащ-накидки латинского шелка,
Ружья в козлах. И – сам Бонапарт
Красной меди сюртук, треуголка.
В дорогой антикварной пыли,
В окружении нимф и амуров,
Сановито молчат короли
На усталых старинных гравюрах.
Сколько сразу батальных вещей,
Грозных взоров и спеси коварной!
И хозяин сидит, как Кощей,
За прилавком над книгой амбарной.
Тихо бьют над прилавком часы,
Как полдневные склянки на шканцах.
И горошина медной слезы
Прожигает сюртук корсиканца.
Хмурит брови испанский король.
Снова тихо. Ни стука, ни скрипа.
Слышно даже, как ползает моль
По камзолу Луи де Филиппа.
1988
То европейка, то мулатка
В толпе встречающих...
И вот
Кромешный возглас – «Вася, братка
Потряс наш старый пароход.
Все позади – шторма и штили,
Семнадцать суток – день ко дню.
Смахнув слезу, глядит Василий
На аргентинскую родню.
Он с нами шел, свиданья ради.
Он тридцать лет копил гроши.
И вот с акцентом кличут «дядю»,
Толпясь у борта, племяши.
Еще взойдут по трапу власти –
Чины таможни, сандозор.
Потом уж он, не веря счастью,
Обнимет брата и сестер.
Стоит, бедняга, курит тяжко,
Роняя пепел на настил,
На чемодан в ремнях и пряжках,
Что в ГУМе загодя купил.
Смелей, земляк! Родня с машиной:
Встречают, словно короля!
Но Аргентина... Аргентина...
Чужая все-таки земля.
1989
Ну ладно б, лошадь иль корову
Иль, скажем, стадо антилоп,
А тут встречаю льва морского,
Столкнулись, господи, лоб в лоб
На эту, бог ты мой, скотину
Дивлюсь я: экая гора!
А лев потер о кнехты спину
И вяло рыкнул: спать пора!
И лег на кромочке причала,
Мол, неча попусту будить,
Ему вставать на зорьке алой,
Семейство львиное кормить.
Я ретируюсь виновато
Поближе к трапу корабля.
Лежат на утлых кранцах львята,
Во сне усами шевеля.
Сомкнули львиные объятья,
Как на лужайке, на траве.
И я свидетель: меньших братьев
Никто не бьет по голове.
1988
Нудный дождик с ночи мочит,
Робкий вылизал снежок.
Но кричит задорно кочет –
Местный Петя-петушок.
Он и здесь поет, ликует,
Хорошо ведет канву.
И, как слышно, не тоскует
В иностранном во хлеву.
Я гляжу: как будто в кадре,
Аргентинская зима,
Городок Пуэрто-Мадрин –
Церковь, кладбище, дома.
В дополнение картины,
Вдоль прибрежной полосы,
Важно шествуют пингвины,
Держат по ветру носы.
Сядут чинно, лапы греют,
На залив глаза кося,
Словно тайною владеют.
Что рассказывать нельзя.
1988
У Кабо-Верде выло, дуло.
И волны шли – стена, редут.
И, как назло, сошлись акулы,
Кружат у борта, крови ждут.
Какой уж час грозят над бездной,
Пророча гибель кораблю.
И я – попался прут железный! –
Грожу им: наглость не терплю!
Вы зря, кричу, меня следите,
Напрасно вяжетесь ко мне.
Плывите, дома посидите –
В своей разбойной глубине!
Но ходят волосы под кепкой,
Когда блеснет средь волн и скал,
Как двух борон зубастых сцепка,
Акулий дьявольский оскал.
1988
За рейс постареет не только металл,
Усталым и грустным вернусь я на сушу.
Вот только что в полдень прошли Сенегал,
И – странно! – событье не тронуло душу.
Космичность эмоций, объемлющий взгляд,
Потери крупней и глобальней фортуна.
Эфир сообщил, что бомбили Багдад,
Нам тоже досталось вчера от Нептуна.
Что светит нам дальше: удача, тщета?
Не знаю... Пока лишь шнурую ботинки.
Иду на корму и сдираю с борта
Обычную ржавчину – пневмомашинкой.
1988
Наутро пришли мы в Израиль,
Как боцман сказал, в Израиль.
Встречал нас на пристани Авель
С чернявою дочкой Рахиль.
Они предложили товары.
И хоть я торги не терплю,
Пощупал «колеса» и «шкары»[9],
И буркнул:
– В Стамбуле куплю!
Зачем мне исламские четки
И этот синайский инжир?
Пойди, загони свои шмотки
Угрюмым арабам – в Каир!
– Ты шибко-то, паря, не лайся,
Ответил мне Авель, любя, –
Ты лучше у нас оставайся,
Я дочку отдам за тебя...
Ах, дочка! Картина в Манеже!
Тут меча на Яхве грешить...
– Скажи, и меня здесь... обрежут?
А как с ней, обрезанным, жить?
– Живут же... Подумаешь, барин!
Торгаш усмехнулся едва. –
Вон Молотов жил и Бухарин,
И Киров – генсек номер два...
И тут я припомнил, как в споре,
Желая уесть помудрей,
Мне бросил Галязимов Боря[10],
Что я «окуневский еврей».
Ах, Боря, я видывал дива.
Что мне ярлыки и хула!
Сюда бы, под сень Тель-Авива,
Твои золотые слова.
Девчонка-то вправду – картина,
С такой бы по яблочки в сад!..
Да нас не поймет Палестина
И лучший наш друг Арафат...
И грустно, и мысли все те же
В мозгу воспаленном толку:
«Вот так согласись и – обрежут,
А я еще в самом соку!»
– Бывайте...
И за полдень вскоре,
От избранной богом земли,
Ушли мы в Эгейское море.
Винтами свой путь замели.
Как всюду, за милею миля.
За дымкою скрылся причал.
Ну, ладно, водички попили,
Побаяли по мелочам.
1989