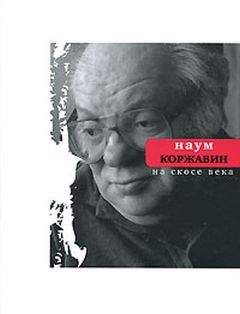Последний язычник
Письмо из VI века в XX
Гордость,
мысль,
красота —
все об этом давно отгрустили.
Все креститься привыкли,
всем истина стала ясна…
Я последний язычник
среди христиан Византии.
Я один не привык…
Свою чашу я выпью до дна.
Я для вас ретроград —
то ль душитель рабов и народа,
То ли в шкуры одетый
дикарь с придунайских равнин…
Чушь!
Рабов не душил я —
от них защищал я свободу.
И не с ними —
со мной
гордость Рима и мудрость Афин.
Но подчищены книги…
И вряд ли уже вам удастся
Уяснить, как мы гибли,
притворства и лжи не терпя,
Чем гордились отцы,
как стыдились, что есть ещё рабство.
Как мой прадед сенатор
скрывал христиан у себя…
А они пожалеют меня?
Подтолкнут ещё малость:
Что жалеть,
если смерть —
не конец, а начало судьбы.
Власть всеобщей любви
напрочь вывела всякую жалость,
А рабы нынче — все.
Только власти достигли рабы.
В рабстве — равенство их:
все — рабы, и никто не в обиде.
Всем
подчищенных истин
доступна равно
простота
Миром правит Любовь, —
и живут для Любви —
ненавидя.
Коль Христос есть Любовь,
каждый час распиная
Христа.
Нет, отнюдь не из тех я,
кто гнал их к арене и плахе,
Кто ревел на трибунах,
у низменной страсти в плену.
Все такие давно
поступили в попы и монахи.
И меня же с амвонов
поносят за эту вину.
Но в ответ я молчу.
Всё равно мы над бездной повисли.
Всё равно мне конец,
всё равно я пощады не жду.
Хоть, последний язычник,
смущаюсь я гордою мыслью,
Что я ближе монахов
к их вечной любви и Христу.
Только я — не они, —
сам себя не предам никогда я,
И пускай я погибну,
но я не завидую им:
То, что вижу я, — вижу.
И то, что я знаю, — я знаю.
Я последний язычник.
Такой, как Афины и Рим.
Вижу ночь пред собой.
А для всех — ещё раннее утро.
Но века — это миг.
Я провижу дороги судьбы:
Всё они превзойдут.
Всё в них будет: и жалость, и мудрость…
Но тогда,
как меня,
их потопчут другие рабы.
За чужие грехи
и чужое отсутствие меры,
Всё опять низводя до себя,
дух свободы кляня:
Против старой Любви,
ради новой немыслимой Веры,
Ради нового рабства…
Тогда вы поймёте меня.
Как хотелось мне жить,
хоть о жизни давно отгрустили,
Как я смысла искал,
как я верил в людей до поры…
Я последний язычник
среди христиан Византии.
Я отнюдь не последний,
кто видит,
как гибнут миры.
1970
К себе, к себе — каким я был и стал.
К себе — пускай поблёк я, пусть устал.
Сквозь вызванную болью злость к толпе,
Сквозь даже представленье о себе.
К себе, к себе — чтоб знать, чего хочу.
С чего молчу и отчего кричу.
Чтоб с правдой слиться смысла своего.
Чтоб устыдиться — если есть чего.
К себе, к себе, чтоб слушать шум листвы.
К себе — чтоб вновь в душе воскресли вы:
Всё — тот, кто свят, и чья судьба — грешить.
К себе — чтоб знать, как всем непросто жить.
К себе, к себе — чтоб к вам живым прийти,
Чтоб никого потом не подвести.
Чтоб где-то на изломе бытия
Не оказалось вдруг, что я — не я.
1970
Люди могут дышать
Даже в рабстве… Что злиться?
Я хочу не мешать —
Не могу примириться.
Их покорство — гнетёт.
Задыхаюсь порою.
Но другой пусть зовёт
Их к подъёму и к бою.
Мне в провалах судьбы
Одинаково жутко
От покорства толпы
И гордыни рассудка.
Ах, рассудок!.. Напасть!
В нём — при точном расчёте —
Есть капризная власть
Возгордившейся плоти, —
Той, что, спятив от прав,
В эти мутные годы,
Цепи Духа поправ,
Прорвалась на свободу,
Ничего не любя,
Вдохновенна до дрожи,
Что там Дух! — И себя
Растоптать она может.
И ничем не сыта,
Одурев от похабства,
Как вакханка кнута,
Жаждет власти иль рабства.
Вразуми нас, Господь!
Мы — в ловушке природы.
Не стеснить эту плоть,
Не стесняя свободы.
А свобода — одна.
И не делится вроде.
А свобода — нужна! —
Чтобы Дух был свободен.
Без него ж — ничего
Не достичь… В каждом гнёте
Тех же сил торжество,
Власть взбесившейся плоти.
Выбор — веку под стать.
Никуда тут не скрыться:
Драться — зло насаждать.
Сдаться — в зле раствориться.
Просто выбора нет.
Словно жаждешь в пустыне.
Словно Дух — это бред
Воспалённой гордыни.
Лучше просто дышать,
Понимать и не злиться.
Я хочу — не мешать.
Я — не в силах мириться.
1971
Нам выпал трудный век —
ни складу в нём, ни ладу.
Его огни слепят —
не видно ничего.
Мы ненавидим тех,
кого жалеть бы надо,
Но кто вовек жалеть
не стал бы никого.
И всё-таки как знать —
наш суд не слишком скор ли?
Мы злы, а так легко
от злости согрешить.
Мы ненавидим тех,
чьи пальцы жмут нам горло,
Хоть знаем: им теперь
иначе не прожить.
Да, их унять — нельзя,
их убеждать — напрасно.
Но в нашу правду стыд
незнамо как проник.
Мы ненавидим тех,
кто стал рабом соблазна,
Забыв, что тот соблазн
пришёл не через них.
Он через нас пришёл,
наш дух в силки попался.
Такая в сердце сушь,
что как нам жить сейчас?
Мы ненавидим тех,
чьи жмут нам горло пальцы…
А ненависть в ответ
без пальцев душит нас.
Гагра, октябрь 1971
В защиту прогресса
Западным левым и московским «славянофилам»
Когда запрягут в колесницу
Тебя, как скота и раба,
И в свисте кнута растворится
Не райская с детства судьба,
И всё, что терзало, тревожа,
Исчезнет, а как — не понять,
И голову ты и не сможешь
И вряд ли захочешь поднять,
Когда все мечты и загадки,
Порывы к себе и к звезде
Вдруг станут ничем — перед сладкой
Надеждой: поспать в борозде,
Когда твой погонщик, пугаясь,
Что к сроку не кончит урок,
Пинать тебя станет ногами
За то, что ты валишься с ног, —
Тогда — перед тем как пристрелят
Тебя, — мол, своё отходил! —
Ты вспомни, какие ты трели
На воле, резвясь, выводил.
Как следуя голосу моды,
Ты был вдохновенье само —
Скучал как дурак от свободы
И рвался — сквозь пули — в ярмо.
Бунт скуки! Весёлые ночи!
Где знать вам, что, в трубы трубя,
Не Дух это мечется — хочет
Бездушье уйти от себя,
Ища не любви, так заботы,
Занятья — страстей не тая…
А Духу хватило б работы
На топких путях бытия.
С движеньем веков не поспоришь,
И всё ж — сквозь асфальт, сквозь века
Всё время он чувствует, сторож,
Как топь глубока и близка.
Как ею сближаются дали,
Как — пусть хоть вокруг благодать, —
Но люди когда-то пахали
На людях — и могут опять.
И нас от сдирания шкуры
На бойне — хранят, отделив,
Лишь хрупкие стенки культуры,
Приевшейся песни мотив.
…И вот, когда смыслу переча,
Встаёт своеволья волна,
И слышатся дерзкие речи
О том, что свобода тесна,
Что слишком нам равенство тяжко,
Что Дух в мельтешенье зачах…
Тоска о заветной упряжке
Мне слышится в этих речах.
И снова всплывает, как воля,
Мир прочный, где всё — навсегда:
Вес плуга… Спокойствие поля…
Эпический посвист кнута.
1971