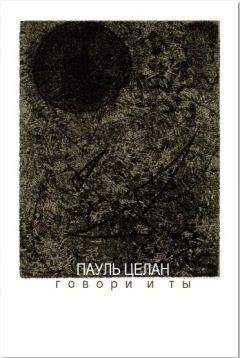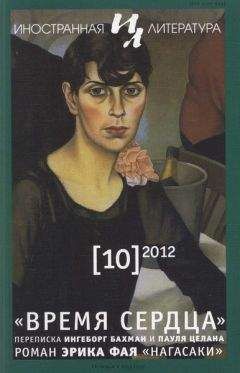'
Из книги
Die Niemandsrose
Роза никому
В них была земля, и
они рыли.
Они рыли, и рыли, и так
проходил их день и их ночь. И они не хвалили бога,
он, слыхали они, так хотел,
он, слыхали они, это знал.
Они рыли и слыхом не слыхивали;
не мудрели и песен не знали,
не слагали наречия.
Рыли.
И спустилось затишье, и сменилось бураном,
и все моря пришли.
Я и ты и червяк роем в грунте песчаном,
и спетое скажет: роют.
О кто, о некто, никто, ты — куда же,
если некуда было податься?
О, ты роешь, я рою, я к тебе, и пусть наше
кольцо пробудится на пальцах.
С вином и с потерянностью,
с их убыванием:
я гнал верхом через снег, слышишь,
я бога гнал вдаль — вблизь, он пел,
последней
была эта езда через
человеко-плетни.
Они сгибались, когда
слышали нас над собой, и
писали, и
перевирали наше ржание
на одно из
своих ображённых наречий.
У обеих рук, там,
где у меня росли звёзды, всем
небесам далеки, близки
всем небесам:
Какая
там явь! Как
раскрывается мир перед нами, сквозь
и через нас!
Ты там,
где твой глаз, ты там,
вверху, там,
внизу, я
найду выход.
О, эта блуждающая, пустая,
гостеприимная середина. Отделившись,
я выпаду на долю тебе, ты
на мою долю выпадешь, друг другу
выпав из рук, мы видим
насквозь:
Одно
и то же
нас
потеряло, одно
и то же
нас
позабыло, одно
и то же
нас — —
Немые запахи осени. Астра, без
надлома, прошла
между родиной и бездной сквозь
твою память.
Чужая потерянность, став
фигурой, была рядом, и ты
почти
жил.
Кто нас вылепит снова из земли и из глины — никто,
отпоёт наш прах.
Никто.
Хвала тебе наша, Никто.
Для тебя мы
станем цвести.
Прямо напротив
тебя.
Ничто
были, есть мы и будем,
и будем цвести:
ничему, ни-
кому роза.
С
пестиком души светлей
и пустынною тычинкой,
с венчиком багровым
от пурпурного слова, слово мы пели
над, о над
тёрном.
Молчание, как варёное золото, в
обугленных
руках.
Серый, большой,
как любая потеря, близкий
образ сестры:
Все имена, все вместе со-
жжённые
имена. Сколько
золы для благословения. Сколько
обретённой земли
над
лёгкими, такими лёгкими
кольцами
душ.
Большие. Серые. Бес-
примесные.
Ты, тогда.
Ты с бледной,
раскушенной завязью.
Ты в потоке вина.
(Не так ли — и нас
отпустил ход этих часов?
Пусть,
хорошо, что мимо умерло твоё слово.)
Молчанье, как варёное золото, в
обугленных, обугленных
руках.
Пальцы, тоньше дыма. Как венцы, венцы воздуха
на — —
Большие. Серые. Следов не
имущие.
Цар-
ские.
Это уже не
та
на время опущенная
с тобою в твой час
тяжесть. Эта
другая.
Это вес, отстраняющий пустоту,
что ушла бы с
тобой.
У него, как у тебя, нет имени. Может быть,
вы — одно. Может быть,
и меня ты однажды назовёшь
так.
Тому, кто встал перед дверью, однажды
вечером:
ему
я открыл своё слово —: я
видел, как он засеменил к подменышу-
полу-
мерку, к
брату, рождённому в измаранном
сапоге пехотинца,
брату с кровавым
бого-
удом, к
щебетуну.
Рабби, проскрежетал я, рабби
Лёв{10}:
Этому
обрежь слово,
этому
впиши живое
Ничто в душу,
этому
раздвинь два
увечных пальца в спаси-
тельное благословение.
Этому.
. . . . . . . . . . . .
И захлопни дверь заката, рабби.
. . . . . . . . . . . .
И распахни дверь рассвета, ра- —
В миндалине — что ждёт в миндалине?
Ничто.
Ничто ждёт в миндалине.
И ждёт там, и ждёт.
В ничто — кто ждёт там? Царь.
Там царь ждёт, царь.
И ждёт там, и ждёт.
Прядь у еврея не поседеет.
И твой глаз — куда ждёт твой глаз?
Твой глаз у миндалины ждёт.
Твой глаз, он ждёт у ничто.
Ждёт у царя.
И ждёт так, и ждёт.
Прядь людей не поседеет.
Пустая миндалина царски синеет.
Прильнув щекой к Никому —
к тебе, жизнь.
К тебе, обретённая обрубком
руки.
Вы, пальцы.
Далеко, в пути,
на перекрёстках, нечасто,
отдых на
освобождённых фалангах,
на
пылевой подушке Однажды.
Одеревеневший сердечный запас:
едва тлеющий
любви, лампады служитель.
Малое пламя половинчатой
лжи пока ещё есть в той
или этой
скоротавшей в бессоннице ночь пóре,
к которой вы прикасаетесь.
Наверху звон ключей,
в дереве
дыханья над вами:
последнее
слово, на вас поглядевшее,
теперь должно остаться и быть наедине.
. . . . . . . . . . . .
Прильнув щекою к тебе, обрубком
руки обретённая
жизнь.
Двудомный{12}, ты вечен, ты не-
обживаем. Потому
мы строим и строим. И потому
оно продолжает стоять, это
жалкое ложе, — под ливнем
оно стоит.
Иди, любимая.
То, что мы ляжем здесь,
станет перегородкой —: Ему
тогда достанет себя самого, вдвойне.
Позволь ему, он
станет цел из половины
и сноважды половины. Мы,
мы постель в ливне, да
придёт он и насухо нас переложит.
. . . . . . . . . . . .
Он не придёт и насухо нас не переложит.
Серый, без-
глазый, ты, каменный взгляд, с тобой к нам
вышла земля в человеческом образе
на дорогах тёмно- и белопустынных,
вечером, перед
тобой, расщелина неба.
Отвергнутое, свезённое погрузилось
за сердечную спину. Морская
мельница стала молоть.
Светлокрылая, ты висела, утром,
между дроком и камнем,
малая пяденица{14}.
Черны, цвета
филактерий{15}, таковы были вы,
вы, вторящие
молитве стручки{16}.
Что случилось? Камень из глыбы.
Кто проснулся? Я и ты.
Речь и речь. Со-звёзды. При-земли.
Нищи. Открыты. Родны.
И куда ушло? В недозвучие.
С камнем и нами ушло двумя.
Сердце и сердце. Тяжко везучие.
Тяжелее став. Легче живя.
Легло в Твою руку:
некое Ты, бессмертное,
на котором пришло в себя целое Я. Вокруг
плыли бессловесные голоса, пустые формы, всё
вступило в них, перемешалось
и отслоилось от смеси
и снова
смешалось.
И числа были
вотканы в
бесчисленность. Одно и тысяча и
то, что шло перед и после,
были больше себя, меньше, вы-
зревшее и
за- и рас —
колдованное, превращённое в
пускающее ростки Никогда.
То, что было забыто, хваталось
за то, что нужно забыть, части земли, части сердца
плыли,
тонули и плыли. У Колумба
без —
временник в глазу, мать —
цветок,
он убил мачту и парус. Всё уходило в путь,
свободное,
тянулось к открытиям,
роза ветров отцветала, лепестки
опадали, мировой океан
цвёл гроздьями, появлялся на свет, в чёрном свете
росчерков диких штурвалов. В гробах,
урнах, канопах{17}
проснулись детки
Яшма, Агат, Аметист — народы,
роды и племена{18}, слепое
связалось в
змееголовые свобод —
снасти —: в
узел
(и пере- и противо- и много- и дважды- и ты-
сячеузел), которым
приплод хищных звёзд
с глазами мясопустных ночей считал в бездне
бук-, бук-, бук —
вы, вы.