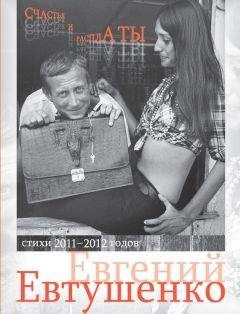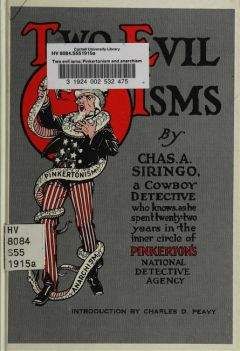7
Прекрасный друг, застенчивый мятежник,
вокруг себя ты ссоры утишал,
ничем теперь тебя мы не утешим,
как ты тогда нас дружбой утешал.
Чтобы твоя душа не угасала,
чтоб новой жизнью стала послежизнь,
я, как медведь, рычу тебе, Гонсало:
держись, колибри миленький, кружись!
Хотя ты был великим «надаистом»,
ты всех вокруг себя тогда спасал
и грозно, ибо был, как надо, истов,
колибриевым перышком писал.
Без Пабло и тебя – больнее беды.
Без Пастернака грусть не побороть.
Булата нет. Андрея нет и Беллы,
нет Роберта. Нет сразу двух Володь[7].
Так что такое Муза на Земле,
покинувший меня мой брат Аранго?
Когда болит бумага на столе,
она – незаживающая ранка,
все раны уместившая в себе!
«Чево, чево?» – так многие ответят
на чью-то боль, скрывая свой зевок.
Так много развелось «чевок» на свете,
что поневоле ценишь «ничевок».
Уж лучше называться «ничевоком»,
чем не любить и вправду ничего,
а небо все увидит Божьим оком
и не простит за это никого.
Дора,
Летиция нас породнила
cреди охотников на крокодилов
у этого крошечного сельца,
где ни одиношенького подлеца.
Сельцо —
сиротка двадцатого века,
но можно в нем «Доктор Живаго» прочесть.
Есть здесь и библиотека,
и библиотекарь есть.
Его зовут Верхилио Диас —
Вергилий по-нашему.
Он чуть горбат.
Его лицо так по-детски гордилось,
когда он показывал, чем богат.
Конечно, здесь были синьор Данте,
сеньор Сервантес,
и мистер Твен,
и компаньеро Неруда,
к чьей дате
недавнего шестидесятилетия
благодарными жертвами его многопоэтия
была сделана книжная выставка
влюбленно и чистенько
на одной из – увы! – очень узеньких стен.
«Я, наверное, первый русский в Летиции?» —
«Русские, правда, здесь редкие птицы,
но залетают и к нам, дон Еухенио.
Может, прибавит вам вдохновения
то, что был у нас русский писатель —
Смирнов[8].
Веселый был человек.
Лихо бил на лице комаров». —
«Какой из Смирновых?» —
«Серхио.
А дальше трудней – Серхевич.
Я его не читал никогда,
но вообще компаньеро сердечный.
Его книг у нас не было,
но как внимания знаки
он оставил нам несколько слов
не на книжке своей, а на Пастернаке…»
Потрясенно раскрыв «Доктор Живаго»,
я вправду увидел автограф,
да и несколько слов,
я сказал бы так —
пышноватенько добрых.
Что-то вроде:
«От имени советских писателей столицы
я
рад, что вижу здесь книгу нашего классика.
Вива, Летиция!»
Мой Вергилий,
не знавший подробностей нашего ада,
чуть замявшись, спросил:
«Дон Еухенио, вам это явно читать тяжело.
Ну а может, не надо?» —
«Спас он многих героев из тюрем… —
ответил я с чувством стыда и печали.
После стал председателем сборища,
где Пастернака тогда исключали…»
И ответил Вергилий
подавленно и сокровенно:
«Я, как библиофил, понимаю,
что книга c автографом этим —
бесценна».
Так Россия на Амазоньи
отыскала петлистый мой след.
Вновь я в ней оказался как в зоне,
из которой мне выхода нет.
И не надо… В ней корни мои.
Шар земной полон с нею свиданий.
Это зона моих страданий,
это зона моей любви.
Но зачем она так меня мучит
в своих стольких «зачем», «почему»?
Наше прошлое плохо нас учит —
нам учиться бы будущему.
Человек этот, злу понадобясь,
струсил, трусом не быв на войне,
и, быть может, оставив ту надпись,
был он искренен в глубине.
Почему до преступной нелепости
он дошел – ведь когда-то он спас
наших пленных бойцов Брестской крепости,
что в предателях слыли у нас?
И зачем, если в джунглях покаялся,
Пастернака когда-то предав,
после предал Булата, показывая
свою боеготовность в рядах?
В искушеньях таких есть бесовское.
Я беззлобно горюю над ним.
Мы готовностью нашей к бессовестности
свою совесть не сохраним.
«Что проснулся? Приснилось страшное?» —
Дора вздрагивает на краю
и, потягиваясь, меня спрашивает:
«Хочешь песенку напою?»
Кто придумал такую драму —
нет такого еще драмодела…
Дора, напоминая мне маму,
спела песенку «Дормидера».
Ведь недаром в любом поколеньи
есть у любящих женщин в крови
это чувство усыновленья,
а без этого нету любви.
Песня Доры была перуанской.
Дора этой бессонной ночью
утешать меня порывалась,
только вот получалось не очень.
«Dormi, dormi, dormidera[9]…
Ты ведь сонная трава,
ты за всеми приглядела,
никого не отравя.
Всем, кому от слез не спится,
помогаешь видеть сны,
но тяжки твои ресницы
и глаза от слез тесны». —
«Dormi, dormi, dormidera…
А не то сойдешь с ума,
ведь тебе до всех есть дело,
поспала бы хоть сама.
Но ты дела не забудешь.
Вряд ли мы уговорим.
Если спать сама ты будешь,
не поможешь спать другим».
Dormi, dormi, dormidera…
Ходят страхи у ворот.
Если совесть есть и вера,
значит, мир не пропадет.
Когда прилетели мы с Дорой в Летицию,
там были пугающие чудеса:
все индианки морщинолицые
рвали серебряные волоса
и завывающей пестрой кучей
на аэродромчике бились в падучей,
и слезопады
катились из глаз,
скулили собаки,
всем жалобно вторя, —
ну, словом, народного общего горя
был самодеятельный показ.
И я спросил, почему вы плачете
и ваших слез совершенно не прячете?
И старый индеец сказал:
«Мы дети те,
которые знают —
вы скоро у-е-де-те.
Поэтому мы и рыдаем,
но скоренько отстрадаем.
А за обьяснение это
с вас песо,
сеньор el poeta…»
И наш Вергилий,
к всеобщему увеселению,
придумал подарок местному населению —
мой поэтический «рециталь»
на трех языках:
по-индейски, испански и русски
и от общественной самонагрузки
розой от радости расцветал,
поскольку явилась вся популяция,
с двумя почти голыми папараццами
(лучше всего умеющими щелкать
не фотокамерами,
а чуингамом,
но преисполненными тактом
по отношению к дамам),
со всеми стариками и даже младенцами —
словом, со всеми летициэнцами,
и даже вождь ожидался сам
чуть с опозданием,
как предполагает священный сан.
И сервированы были в раковинах моллюски,
и был принесен крокодил
для горячей закуски,
а чтобы он грех кровожадности понял,
вину искупя,
был водружен на гигантский шампур из копья,
а для любителей были
жареные пираньи,
здесь апробированные пирами,
и в автомобильных канистрах – жидкость,
которая всем прибавила живость.
И, утихомирив голеньких,
распрыгавшихся над костром,
наконец появился вождь,
рукой махнул,
и я грянул как гром,
читая среди индейского праздника
их зацепившую «Казнь Стеньки Разина».
Оказалось, что здесь
(в отличие от Минобра РФ)
поэзию любят.
И, хлопая мне изо всех человеческих сил,
«А нельзя прочитать еще раз то место,
где голову рубят?» —
охотник на крокодилов
меня вопросил.
И, ради простого народа
добавив мощности голосу,
я отрубил еще раз Стеньке Разину голову.
И вдруг
вся Летиция в такт запела,
стихам подпевая,
как будто капелла.
Ладоши мозолистые и рьяные
загрохали в пузища барабанные.
Стихам я до нынешнего момента
такого не слышал аккомпанемента,
а после смеялись все
и веселились,
да так, что валились в траву,
обессилясь.
И как непонятливый гость из России,
«Чему вы так радуетесь?» —
спросил я.
Мне было слегка от их радости странно,
ведь наш самолет улетал рано-рано.
И старый индеец сказал мне:
«Мы дети те,
которые знают —
вы вновь при-е-де-те.
Поэтому радуемся,
а не страдаем.
Приедете —
вновь сообща зарыдаем.
Вот если бы всем
приезжать бесконечно,
но не уезжать,
оставаясь навечно!
И за обьяснение это
с вас песо, сеньор el poeta.
А вашей красавице
просто за так
я подарю мной сплетенный гамак».
И Дора счастливо обмякла,
целуя гамак:
«О, хам-м-м-ака!»
Так в детстве
все сладкое я обозначивал чмоканьем:
«М-м-мака!»
О, разноцветнокожее,
лишь на себя похожее,
мое многоро́динное,
к счастью, неразблагороденное,
душе не позволившее
себе на позорище
забыть для прославленности
о чьей-то раздавленности,
ради сценичности
исциничиться,
ради беспечности
забыть о вечности,
не дай душе изувечиться,
Отечество-Человечество!