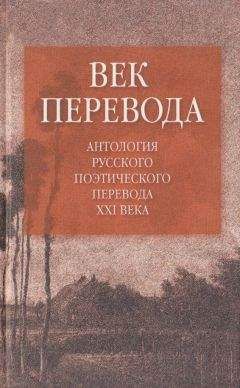УИЛЬЯМ ВОРДСВОРТ{101} (1770–1850)
К верхам далеким тянется распад,
Чтоб в глубину басов уйти. И нот
Ужасных тех вовеки не прейдет
Согласие. И в смерти есть свой лад.
Но он не слышен тем, кто знает глад
Преступных мыслей. Их удел — тоска.
И правда не прейдет. Но как хрупка
Любая ипостась ее! От гряд
Вчерашних туч не видно и следа.
Исчез и белый многоглавый град,
Воздвигнутый как будто на века
На месте леса. Рухнул он, когда
Раздался крик, и скрытая рука
Вдруг стерла всё, коснувшись наугад…
БЛИСС КАРМЕН{102} (1861–1929)
Верно, в осени просторной что-то родственно со мной —
Образ, облик или строй.
В рифму сердце говорит
С желтым, пурпурным, багряным, что сейчас вокруг горит.
И клена яркий всполох меня пробудит вдруг,
Как труб призывный звук.
Мой дух уж за холмом,
Что весь в замерзших астрах, как в облаке седом.
Кровь цыганская бунтует в октябре всего сильней.
Отзовись и следуй ей.
Она ходит по холмам.
Сзывает всех бродяг по именам.
(Молитва язычника)
О нет, я не боюсь. Я неустанным
Стал соглядатаем твоих чудес,
Когда впервые прошептал: «Как странно»,
Войдя ребенком в заснеженный лес.
И я всё тот же! Как бы сиротлива
Земная наша гавань ни была,
Пусть из нее во внешние проливы
Любовь моя навеки перешла —
К тебе тянусь сыновнею душою,
И ты, как мать, склоняешься ко мне,
Я слышу тот же голос, что порою
Бывает слышен травам на холме.
Когда, тебя не ощущая рядом,
Покинутый, я зарыдал в тоске,
Ободрили сочувствующим взглядом
Меня леса. На древнем языке,
Понятном только звездам и закатам,
Приязненно со мною говоря,
Утешил ветер, приобщив к крылатым
Словам таинственного словаря.
Не дай, когда последний вихрь завоет,
Мне смертный холод встретить одному —
Пускай меня твои объятья скроют,
Не подпустив сгустившуюся тьму.
Пусть ураган, трубя освобожденье,
Бессилен будет твой нарушить строй,
И пусть во мраке, посреди смятенья,
Сияет ровным светом твой покой.
РОБЕРТ САУТИ{104} (1774–1843)
Схвачен Рупрехт-разбойник, каналья и плут,
В славном Кёльне, — скорехонько справили суд:
Приговор оглашен, от петли не спасут
Бедолагу ни фарт, ни сноровка,
Ждут его два столба да веревка.
От возмездья за мзду всё одно — не уйти,
Но заверил монах: есть иные пути,
Откуплю — и обет не нарушу, —
Отмолю многогрешную душу.
Вторит братия хором: мол, это почет —
Чистоганом Всевышнему дать под расчет,
И добро твое будет на месте,
А уж мы отпоем честь по чести!
За тебя все святые мольбу вознесут,
Чьи нетленные мощи покоятся тут,
Коли щедры твои воздаянья
На их нужды и благодеянья.
На Волхвов уповай, — молвят, руки воздев, —
На одиннадцать тысяч умученных дев,
Кёльн — хранитель священного праха,
И душа не изведает страха!
И обитель монашья помянет добром
Удальца, искупившего грех серебром,
Нас вниманьем своим не обидишь —
Невредим из Чистилища выйдешь.
Там бушует огонь — вавилонского злей,
Не щадит ни безродных он, ни королей,
Попечением рати Господней
Ты нетронут придешь к преисподней.
Будет всё по-людски: отдавая концы,
Уследишь, как читали святые отцы
Из Писанья, как в колокол били,
Как веревку украдкой кропили.
Но негоже предать твое тело земле,
Будет Рупрехт-разбойник болтаться в петле,
Чтоб прохожие, днем или ночью,
В том могли убедиться воочью.
В Дюссельдорфе, равно как и в рейнском краю,
Лицезреть перекладину смогут твою,
Юг, и север, и запад равнинный
Насладятся приметной картиной.
Будет виселица отовсюду видна,
И для взора любого отрадна она:
Имя Рупрехта долгие годы
Означало беду и невзгоды.
К месту казни монахи явились чуть свет,
Дабы выполнить Рупрехту данный обет.
И с почтеньем, отнюдь не с проклятьем,
Совершилась расправа над татем.
В кандалах его вздернули, и поделом!
Но водой окропили, пропели псалом,
Умилялась вся братия долго
Исполненью последнего долга.
На закате толпа разбрелась по домам,
Возвратились зеваки к обычным делам,
Лишь, неверным охваченный светом,
Рупрехт темным висел силуэтом.
Любопытный порой озирался назад,
Дабы бросить на жертву решительный взгляд.
Но с восходом народ изумился:
Из петли Рупрехт-висельник смылся.
Нынче в Кёльне иная царит суета,
Озадаченный люд не поймет ни черта.
Нет висевшего головореза,
И куда подевались железа? —
Лишь удавка цела, без надреза.
— Чудеса, мы таких не видали пройдох!
Ведь болтался в петле он, покуда не сдох!
И весь день провисел, как колода,
На глазах у честного народа.
И палач говорил: мол, на то я и кат,
Чтобы службу исполнить свою в аккурат.
Я всю душу вложил, без боязни
В совершение праведной казни.
И соседи, и кровная даже родня
Убоялись бы, совесть грехом бременя,
Выкрасть Рупрехта бренные кости
Да еще схоронить на погосте.
Или был нечестивец по чести казнен
И поэтому чуда сподобился он?
Или здравствует он и поныне?
Или прах его подле святыни?
Если впрямь в освященной земле его прах,
Диво дивное в наших случится краях;
Если жив — посвятит себя Богу,
На блаженную встанет дорогу,
Устремляясь к святому чертогу.
Без сомненья, чудесное просит чудес.
Отошедший столь дивно — достигнет небес!
Люд гадал, помирая со смеху:
Кто устроил такую потеху?
Неужели Волхвы, Кёльна гордость и честь,
Осужденному славную подали весть?
Или девы Урсулы блаженной,
Те, что в кёльнской земле погребенны,
Вняли мнихов молитве смиренной?
Утверждали одни — Короли, мол, Цари
Волхвовали о нем от зари до зари,
А другие твердили — Урсула,
Видно, в сердце его помянула.
А кому-то казалось, что славный исход
Явлен был издалече, с прирейнских широт,
Ибо Рупрехт рожденьем оттуда, —
Из-за Рейна ниспослано чудо.
Но тогда Дюссельдорфу — почет и хвала?
Страстотерпцами вчуже вершатся дела?
Значит, Кёльн чудесам не причастен,
И над дивом кудесник не властен, —
Кто ж останется тут безучастен!
Возроптали монахи от оных докук,
Ибо чудо почли делом собственных рук,
Это всяк подтвердит без натуги,
Не такое творилось в округе, —
Кто посмел умалять их заслуги!
Пересуды о том не смолкали семь дней,
Горожане судачили всё мудреней.
Вдруг застыли, не молвя ни слова:
Рупрехт в петле болтается снова!
Горожане глазеть повалили гурьбой:
Это Рупрехт, — галдели они вразнобой, —
Труп как труп, не подобен фантому,
Но свеженек, не сгнил по-земному
Знать, заклятью подвержен дурному.
Как же так, — пронеслось над притихшей толпой, —
Был казнен в башмаках он, а я не слепой!
Поползли по толпе разговоры:
К башмакам приторочены шпоры!
Значит, Рупрехта где-то носило верхом,
После смерти скакал, одержимый грехом!
Этой вести народ поневоле
Удивлялся всё боле и боле.
Рупрехт не был в жокейский наряд облачен
В день, когда так исчез неожиданно он!
Вот и нынче в цепях, чин по чину, —
Видно, тайна скрывает кончину.
Может, зря нам твердили святые отцы,
Что столь праведно Рупрехт откинул концы?
Может, чудо устроили не чернецы?
Стал от ужаса воздух кромешен:
Не иначе, здесь дьявол замешан.
Был нам Рупрехт проклятьем, — шептался народ, —
Нет, повешенный проклят, лукавый не врет!
Окаянный стращал всю округу,
С мертвяком — сам помрешь с перепугу.
Спятишь, даже представив того скакуна
И того, кто решился ступить в стремена.
Труп, на адской гарцующий кляче, —
Вся земля содрогнулась бы в плаче!
Надо в землю поглубже его закопать,
Камнем рожу прижать — пусть не шастает тать.
Препожалуют к нам экзорцисты,
Дабы сгинул навеки нечистый.
Впрочем, те, кто в познаниях был искушен,
Говорили: могила — дрянной ухорон.
Одержимому силою ада
Гроб — не крепость, земля — не преграда,
Коль захочет — пойдет куда надо.
Здесь, в святая святых трех библейских Царей,
Отродясь не знавала земля упырей.
Рупрехт хуже вампира-злодея.
Экзорцисты — пустая затея!
Лишь огнем можно чертову выжечь алчбу,
Прах сожженный не будет вертеться в гробу,
Не посмеет идти на подначки
И устраивать адские скачки.
Но твердили иные: а как же секрет?
Кто на тайну прольет очистительный свет?
Надо бдеть в этом месте мистичном!
Пособившую в зле неприличном —
Стоит ведьму ущучить с поличным.
Ибо как же без ведьмы в таких-то делах? —
Это каждый поймет, невзирая на страх.
Раз такая случилась оказия,
Мы узнаем про все безобразия!
Так в догадках и спорах томился народ,
Но не двинулось дело ни взад, ни вперед.
О чудовищном столь произволе
В славном Кёльне не знали дотоле!