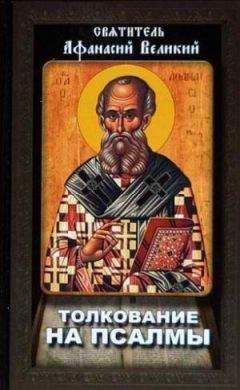Ознакомительная версия.
Гости вскакивают, разбегаются, ребёнок рыдает, отец окаменел.
Двое:
– Согласись, что история мрачная, что ни на есть,
Сын в больнице единственный. Будешь ростбифы тут есть!..
– Что ты там говорил, братец, про итальянскую месть?..
Проходят мимо.
Холодна вода. Холодна земля.
Студят холода воздух до нуля.
Лампу коротит: в дыме провода.
Тишина. Отит. Больно в холода.
Буду есть, дремать, детектив читать,
Сигарету брать, по утрам чихать,
Буду наблюдать стынущим лицом
За моим смешным, мёрзнущим скворцом.
Скоро улетишь в тёплые края.
Виноград клевать. Ах, Бургундия!
Что ж, малыш, один зазимую я,
Да со мной хандра, мерихлюндия.
Вместь шиповника – снежок розовый.
Гол, следит облака ствол берёзовый.
По первому снегу иду я с утра.
Всё вымерло. Чисто и тихо.
Над Новодевичкой кресты, и ветра,
И гроздья вороньего крика,
Искрится алмазами маленький парк,
И в сахарном инее ива,
И тут я шепчу, чуя лёд на губах:
«Как, Господи Боже, красиво»!
И знаю: с упором французским на «р»,
Звук «э» всюду ставя жеманно,
Шептал эту строчку мою офицер,
Которому речь моя странна.
Небось он сказал бы: «гороховый шут»,
И сечь приказал для примера…
Я вслух говорю: «Э… пгости, что я тут
Гуляю… одна у нас вера».
А он сквозь пенсне: «Ты не выкрест, солдат»?
А я: «Да пожалуй, что выкрест».
…«И как, э-э… забрёл»? – Уточняю: «Сюда-то»?
– «Да. Из купчин, и э-э… разных выриц?..
Гуляй уж, служивый, раз как-то забрёл». —
И он повернулся спиною.
И, знаете, в бешенство я не пришёл,
Что он так… насмешлив со мною:
На мне тяготела большая вина,
Побольше, чем барские палки,
И за это вода холодна-холодна
Подо льдом, в Новодевичьем парке.
Кто, кто, ну – кто же – изверг, блин, сентиментальный,
В некрасовский в жару обряженный сюртук
Полупердонистый, школярско-тривиальный —
Изверг цыганисто-гитарный звук?
Кто, кто сей господин? Не я ли? Об-па! – братцы!
Бомжи бы сказанули: «Обосраться»!
На синей занавеси кончики берёз
Как будто тянут маленькие пальцы
Сильней, сильней, желают показаться,
Схватить с небес и бросить купорос.
Пруд. Крякают сиреневые утки,
Но чёрный лёд им тыкается в грудки.
Лёд. Люди в чёрном холоде, в пальто
Ждут молча опоздавшего авто-
буса и светятся. И сквозь
Шуршанье шин сопят, и слышно уток
Сиреневых покрякиванье – врозь
Расставив лапки, бегают. «Ублюдок!», —
Кричит жена на мужа своего, —
«Ты с ней гулял!». Весна. Весны приметы.
Заряженные веток пистолеты
В финале выстрелят. И серый двор
Заполнится зелёными флажками,
И с тряпкою рука запляшет в раме.
Сокрушительным ударом сломан лёд
Сокрушительным ударом
Сломан лёд, раздавлен лёд.
Пахнет воздух шумом-гамом.
Тополь гол. Душа цветёт.
Лижет воздух лёд как пищу
Жадным, жарким язычищем.
Так в кормушке лось лесной
Лижет камень соляной.
Сходный с чудищем морским
Пузырится мегаполис.
Глины и дыханья помесь
Делит воздух на куски.
Я – свисток – внутри сквозняк,
…Обжиг с росписью несложной —
Свист хорея заполошный
Издаю в твоих губах.
Футбольная ода на победу югославов
Наконец-то я вижу, что Бог помогает России —
Потому, что три: два. Потому, что – три: два. Три: два, бля.
Съели горечь и желчь англосаксы, и красные, злые
Удалились, пылая от срама, винить вратаря.
Байрон встал на колени и плачет. Боб Саути, враг его,
Шелли, друг его, в голос рыдают, у Мэри кошмар,
Снится ей Франкенштейн, горло схвачено намертво.
Ощущаете по демоническим яйцам удар?
Киплинг с неба спускался, чтоб Краучу пас удружить,
Двухметровому нехристю, голиафу с ножищей чудовища,
Редьярд, ты проиграл, и в гробу тебе горько тужить:
Потому что ты сделал из третьего мира содомище,
Потому что три: два. Потому что – три: два. Три: два, бля.
Потому что есть Ивица Ольвич, бультерьер, не сдающийся аду,
И вмочил по воротам божественный Петрич, веля
Бесоватым романтикам страх испытать и досаду.
Наши с неба спустились! У ворот Грибоедов парил,
Страшный Лермонтов Кажичу пас получить дал коварный,
И творил Александр Сергеич игру. И пробил
Час позора саксонского. Родины час лучезарный.
Это вам за бомбёжки. За вашу любовь к хиросимам,
Это вам за славянские горы, за слёзы, за кровь,
За разруху, за то, что вы с третьим содеяли Римом,
Это вам… кровь стекает в траву с языка царских псов.
Вас крушат ураганы. И вас побеждают враги.
Вас зарежут ирландцы, разрядив в трансвеститские килты.
Ангел спустится к Лоту и скажет два слова: «содом» и «беги».
И турист потоплённому острову молвит лишь: «был ты».
Потому что вы хищники, кровожадные звери, глотать
Кровь святых обожаете, и убили невинных так много…
Оттого ваши женщины больше не будут рожать,
И напрасно на ваших купюрах враньё в оскорбление Бога.
Оттого ваши пажити станут пусты навсегда,
Оттого вы добычею станете грозных соседей,
Оттого обожжёт вас огонь и затащит вода
В свою тайную глубь в назидание взрослым и детям.
Мне насрать на Иран, на балкон, на партер, на галёрку,
Я не знаю, что сделают с нами за наши грехи,
Но сегодня примите, презренные варвары, порку:
Дали право тому, кого грабили, на поднятие с плёткой руки.
За линялые, бля, за линялые, бля, гимнастёрки —
Те, с которых купили и вырвали вы ордена,
Я стою, безучастен к постыдным следам вашей порки.
«Вот такие», – как дедушка Идл сказал бы, – «дела».
Устыдитесь, раскайтесь, вас предали ваши пенаты,
Вас уделали в собственном доме, в Уэмбли – вам знак:
Подползите к престолу суда и скажите: «Да. Мы виноваты».
А иначе речённое Богом свершится. И именно так,
Как вам сказано. Иначе бы Бог не помог нашим братьям,
Ибо мы виноваты. Ибо мы бесконечно грешны,
На футбольной траве наступает момент тишины,
Но по воле Небес в облаках буду мячик гонять я.
Коробок VIII
Я Пушкин, я же ангел, кстати, тебя примчался вразумляти
Прости. Увы, я слабый человек,
И одиночество мне в тягость.
Жизнь истечет слезами из-под век,
И – на землю. И не осталось.
А ведь лучилась взглядом! А ведь шла
Волшебной иноходью лёгкой!
И серебро рассветное пила,
О камни цокая подковкой…
Решись, беднягу не судя, простить,
Я не способен к поединку,
Лишь смолкну… а приятней погрустить
Под выщербленную пластинку.
Тут, в Москве, когда ты – там – утюжишь уральскую горку —
Жизнь нажалась на паузу. Куртку надел. Выхожу,
Ручка двери тромбоном блестит, дверь поёт: «Как мне горько» —
Блюз под стать Билли Холидей, кухни окно – в паранджу
Прячет искристый снег на дворе: сахар так от дитяти
Прячут, чтоб не стащил… по стене сполз убитый, застыл,
Точно так одеяло застыло, сползая с кровати,
Как морщины покойника, складки сини и чисты.
Свет из лампы, на пол-пути ровно, лица не коснувшись,
Остановлен: как жёлт потолок! Как окружность темна!
Чёрен стол, и не видно посуды, так, только нагнувшись,
Различаешь кофейник… Поёшь, а из губ – тишина.
Отвернувшись от двери и щёлкнув ключом, в лифт направишься,
Кнопку жмешь, взрыва ждёшь, взрыва нет никакого, есть лифт,
Отворяются створки. Лифт шлягер гудит: «Ты мне нравишься…»,
Бьёт сквозь кожу мурашками звонкими гадкий мотив.
Есть аналог: когда по компьютеру смотришь киношку…
Чтобы кофе сварить, ты на паузу ставишь сюжет,
Застывает Истомина, бьющая ножкою – ножку,
Застывает налётчик в руке с яйцом Фаберже,
Или ноги пловца в жадной пасти морского чудовища,
Или ядерный гриб…
Перед тем, как закрыться, дверь карцера в зоне… и что ещё?
Львица в страшном прыжке, русский царь – перед тем, как погиб…
Фильм продлится, когда ты вернёшься: достигнет свет лампы
До лица, до кофейника и до клеёнки стола,
Обнаружится вечер певучий за стёклами рампы,
Губы выяснят точно, что их немота умерла,
Но сейчас, когда ты – там – утюжишь уральскую горку,
Снег осталось в ладонях катать: «Вот земля», – говорить, —
«…Бог Ты мой… шар земной, ком сырой, весь – вместился ты в горстку,
Так, шутя», – над скрипучим сугробом треской воспарить.
В стёкла универсама хлеб чёрный, как всё повседневное
Забирая за деньги, чтоб в шипящий вместить целлофан,
Стать двуногим, и выскочить в дверь: «Кайф-погодка, душевная…»,
После снега – всё стынет ладонь. Там Урал, там – лафа:
Здесь легко кнопку с «паузы» снять, и – смотри продолжение:
Танцовщица парит, вор помчался, башку очертя,
У пловца хлещет кровь, налицо Хиросимы сожжение,
Львица зебру когтит, навзничь царское пало дитя…
…Нет, не фильм – миг, когда ты войдёшь!.. Нечто станет с часами,
И нули в них заменятся зеленью электроцифр,
Вся Москва заблестит колдовскими зимы небесами,
Прояснеет прекрасное слово сквозь разгаданный шифр.
Слово, облаком мчась и сверкая над твердью сырою,
Шар земли из снежка, что в горсти я держал, возродит.
И станцует Истомина не над уральской грядою,
И с процентом вернёшь весь безвременью данный кредит,
Станет слышен февраль – звук гобоя в преддверии марта,
И так ясно услышишь, что капли глаза округлят…
А пока на обоях чернеет Евразии карта,
А пока электронный с кружками нулей циферблат.
Дом. Вернувшись к ступеням, что громче, чем электроклавиши,
Кнопку жму: будет взрыв… что за чушь, будет попросту лифт,
И в открытую крышку рояля вхожу. Лифт гудит: «Ты мне нравишься…»,
Бьёт сквозь кожу мурашками быстрыми гадкий мотив.
Лифт, мечтавший взлететь выше крыши, опять не решается,
Выхожу на шестом.
Хороша в жизни пауза, цыц, хороша, и всё!
Чёрен хлеб – на все сто.
Там, там, там – на Урале… пух снежный от уст где – Эоловых
Вьётся целой толпой – балерин… пусть там стихнет пурга:
Вьюгу пишуший акварелист, загрунтуй всех, ментоловых,
Скользких, бледных, шуршащих в обёртке худышек Дега…
Если там, на Урале, шлягер тот же звучит… знать, оскомина
У тебя – от него…
На ладони твоей быстрой ножкой бьёт ножку Истомина,
То есть – тает снежинка, порастратив своё волшебство.
Ознакомительная версия.