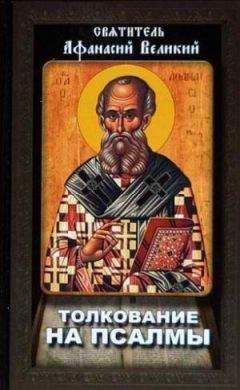Ознакомительная версия.
Растянувшийся сонет
Не мсти, не мсти мне Карловым мостом.
Элегия, про гибель как о чуде,
Поведай мне. Зачем ты об иуде
Долдонишь в уши косарю с крестом?
На этом Влтавы берегу и том
Живут неодинаковые люди.
Казаться скоро воздух Праги будет
Мне с двух сторон закрашенным холстом…
Ушельцы – тени брошенной страны,
Вражда с которой… это их зарплата.
Ушельцам наши лица не видны,
Они там щиплют листья для салата.
Индейку ням, и славят за столом
Божков своих на Долларе своём.
Тельцы – телятину… Зачем ты перебила,
Любимая? Ведь это был сонет!
Что значит: «Не сонет»? Что значит: «Нет»?
Что значит: «строю из себя дебила»?
Что значит: «Ради Бога, продолжай»?
Жить тошно… хоть писать-то не мешай!
Что значит: «Ухожу, и сам как знаешь»?
Не дуйся! В скромности моя вина лишь,
Хотел сонет для краткости, но раз
Ты просишь, раз ты очень увлеклась…
Что значит: «Перестань болтать пустое»?
В твоих глазах я, ничего не стоя,
Являюсь что, простым карандашом?
Что значит: «Да»? Что значит: «я смешон»?
Пусть! Пусть я карандаш, тебе же хуже,
Сломаю нос о первую строку же
За Влтавой… щёлк! Сломался нос. Точи!
Что значит: «Жалкий клоун»? Не ворчи,
Я карандаш, мне до тебя нет дела,
Как и тебе нет дела до меня.
Я для того, чтоб ты на лист глядела,
Забыв меня, писала что хотела,
Но там, где захочу, сломаюсь я.
Что значит: «Хватит песен о пустом»?
Шёл в Тассо Дант, прошёл сквозь Ариосто…
За Влтавою, за Карловым мостом,
За рыцарем, что смотрит – ужас просто —
Католик боль в его лице простом
Не видя, бросит: «Вот славянский нос-то»…
За Влтавой ничего не забывают,
И кто сказал, что синие цветы
В каком-то высшем свете не желты?
Вопрос очков, что цветом закрывают
Бесцветный мир. Покров срывать так лень…
Срывай, ослепни, сызнова надень,
Прозрей… туда-сюда, как ванька-встанька
Скачи – то Энгр ты, то скрипач слепой
То крась… то плюнь на живопись, и пой
Про ногу «ножка», про Татьяну «Танька».
А кто-то ненавидит хуже панка,
Когда весна.
А для кого-то бездна звёзд полна,
Не всем же вечность – в тараканах банька,
Вообразив, что Влтава это Стикс,
Любимая, ты поступила плохо.
Давай, мы бессмертье поделим на икс,
Пусть выйдет подобие вздоха.
Крапива-Русь, звезда ты, и беда,
Борец и курослеп, лога, овраги,
Жемчужный хвощ, болотная вода,
Из папиросной – ос гнездо – бумаги.
Не задержавший взгляда никогда
На кафеле, мокрицах, многоножках,
Прекрасен Энгр, писавший города,
Трамваев звон, красоток на подножках,
От тех щелей, в которые видна
Тщета и пустота, туман и влага,
Его, небось, спасал бокал вина,
Ну а меня – твоя осиная бумага,
Пишу, язык мой – грифель – жалят осы,
И не болит, поскольку боль как цвет,
То синь, то жёлт, а то и вовсе нет.
Люблю глядеть, как в клевер входят косы,
Люблю подводки мелодичный звук,
Сталь, рвущуюся на траву из рук.
Люблю смотреть, как крёстная моя
Склоняется над давешним покосом:
«Ой, Вячеславушка, не знаю я,
Осьми копён-то ить не хватит козам»…
Но… сам не свой от живописи Энгра,
От крымских асфоделей на холме,
Ото всего, что трогаешь, от сленга,
Позволь писать карандашу ты, мне.
Танцуя по листу, по букве, звуку,
Дай, сам, дай поскрипеть, прошу, прочь руку!
Я сам, я сам, как будто без руки
Твои перепишу черновики!
Стикс и Влтава
Разные две речки.
Камни, браво!
Браво, человечки!
Знал каждый грек, ну, да и турок тоже,
Пророчество об ангеле: в час тот,
Когда падёт Царьград, де ангел Божий
К Софийскому Собору низойдёт,
И враг, в стенную хлынувший пробоину,
Упьётся кровью из своих же ран:
Такой чудесный меч христову воину
Рукой посланца, мол, де, будет дан.
Вот и пришла беда,
Врывается в Константинополь турок,
Кровь, как вода,
Втекает в каждый узкий переулок,
На улицах резня.
А у Святой Софии толкотня:
Ждут ангела и тянут греки руки,
Не приближаясь, выжидают турки.
…Нет ангела!
«Бог мой»! —
Безрукий крикнул инвалид седой, —
«Вот, вот же он! Как мечется, рыдает,
Он каждому из вас меч дивный предлагает,
И сквозь него вы руки тянете, слепцы»! —
И тут, пронзён копьём, старик отдал концы.
И вот – Стамбул. Там жители другие…
Сокрылся от слепцов Собор Святой Софии.
О, Господи! Я весь горю.
Твоя звезда в моей макушке.
Курится дым. Так я курю
Окурки за день до получки.
Бог помощь могучим шмелям!
Корабли потопляющим
I
Доверху наполнена грудь (дверь срывая с петель,
Врывается на небо Ветер, бранясь, как погонщики мулов).
Кипящий нектар непогоды я, вымокший Шмель,
С цветка – небосклона сосу. И хмелею. И, с гулом,
Под щелканье ивовых веток, под иволги звон горловой, —
Я, бочка рифленая, тяжко кручусь над травой.
II
Ах! Сапфо сама – этой иволге – грудь прострелила
Тяжелой строфой – и боль ее в песне спалила.
III
Решетку мышиных горшков – ткала Ипокрена, —
Жужжаньем больна! Где ромашек прибойная пена,
Из лесу олень, жук рогатый – из мха – выходили
И мерялись силой. И оба-себе – победили.
IV
Шмели же – от веку дрались с аравийскими львами.
И грозно вонзали в них жала, махая крылами.
Бог помощь могучим шмелям! Корабли потопляющим.
Коробок XIV
Огненный огурец
И ведь дело не в том, что идея, и даже не в том, что плоха,
Да какая бы ни была… всё одно человек-блоха,
Проживающая своё пусть с идеей, пусть без неё,
Пусть как древледремучий философ, пусть как чистое дурачьё.
Вот такое приходит в голову, когда садишься в эле-
ктропоезд на Павловск… лысый дядя навеселе,
И думаешь: если б Бродский не придумал анжамбеман,
С кем бы тогда рифмовался он, в чьей руке не стакан,
А пивная бутылка. Крепкое. Сущий яд.
Один из нас едет на Третью Платформу, второй же – в ад,
Где жена вместо чёрта и вилы раскалены,
Чтоб вонзиться в мягкое… а, может, и нет жены,
Тогда нестирана наволочка, грязная голова,
В телевизоре жизнь, превращённая кем-то в слова,
Братан, я тебе сочувствую. Стайка цыганок в джинсе
Села на станции Купчино. Как изменились все
Эти цветастые платья, памятные с тех лет,
Когда «Лебединое Озеро» был неплохой балет,
С тех лет, когда было проблемой купить билет,
С тех лет, когда станция Вырица, полная дикарей
На лошадях, слепоты куриной, клевера и шмелей,
Меня принимала ребёнком. Родительский день. Мать с отцом,
О том, что они разведутся, им самим неизвестно. С лицом
Мадонны мать разворачивает курицу. Помидор,
Огурец, крупная соль, о глупостях разговор,
С нами девочка Света, чья мать-одиночка к ней
Не приехала, с нею папа и мама нежней,
Чем со мной, это чуточку злит, но совсем не всерьёз,
По дороге скачет цыган на лошади. Блеянье коз.
Жизнь прошла, как азорские острова… ха-ха-ха,
Какая дурацкая строчка: проплывая мимо, слегка
Под хмельком, сказануть такое можно, а тут… а тут
Императорский Павловск мимо, трупы, призраки, тени идут,
Проверяют билеты у пассажиров, тридцать рублей
Безбилетный проезд, если ж денег нет хоть убей,
То, наверно, в живых оставят по своей неземной доброте.
Цыганки выходят. Посёлок. Приехали. Здравствуй, отец.
Чернолик как цыган, подвыпивший, живущий с охотничим псом,
Сидящий в саду под вишней за большим уютным столом,
Всю жизнь положивший в фундаменты, которые разнесло
Время в дребезги. Намертво жизнь заснежило, замело
Время. Как ненавижу время я, обессмысливающее даже рост
Шиповника! Подъяремные быколюди тянули воз
И притянули к вишне, где отец, забывший, зачем
жил.
Мне, всем нам, исчадиям НКВД, простишь ли? Прости мне!.. нам всем.
Я сеятель соли на улицах ночи,
И я не вельможа, но я что-то вроде,
Я снежные тучи с земли прогоняю,
Слова жадных губ на другие меняю.
Лопата – псалтирь и канон мой торжественный
Слагает из снега и жести божественной.
Ритм, ритм движений свеченьями дружен
Крыш, ждущих рассвета. Весь город завьюжен,
Я сеятель соли, я шаркаю бритвой
По рыхлому, рыхлому, р-рытвина, рытвина
Пустой мостовой скорый шаг замедляет,
А соль выпадающий снег растопляет.
Лишь хриплое пение голоса жести,
И снег зарычал, и завыл, против шерсти
Зверь белый-пребелый задет, клок валится,
И чёрная перед ногами страница.
* * *
«Я пишу тебе через силу, постарайся меня понять…»
Ознакомительная версия.