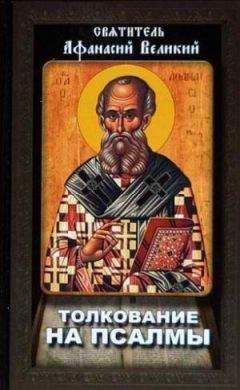Ознакомительная версия.
О падении Византии
Знал каждый грек, ну, да и турок тоже,
Пророчество об ангеле: в час тот,
Когда падёт Царьград, де ангел Божий
К Софийскому Собору низойдёт,
И враг, в стенную хлынувший пробоину,
Упьётся кровью из своих же ран:
Такой чудесный меч христову воину
Рукой посланца, мол, де, будет дан.
Вот и пришла беда,
Врывается в Константинополь турок,
Кровь, как вода,
Втекает в каждый узкий переулок,
На улицах резня.
А у Святой Софии толкотня:
Ждут ангела и тянут греки руки,
Не приближаясь, выжидают турки.
…Нет ангела!
«Бог мой»! —
Безрукий крикнул инвалид седой, —
«Вот, вот же он! Как мечется, рыдает,
Он каждому из вас меч дивный предлагает,
И сквозь него вы руки тянете, слепцы»! —
И тут, пронзён копьём, старик отдал концы.
И вот – Стамбул. Там жители другие…
Сокрылся от слепцов Собор Святой Софии.
О, Господи! Я весь горю.
Твоя звезда в моей макушке.
Курится дым. Так я курю
Окурки за день до получки.
Бог помощь могучим шмелям!
Корабли потопляющим
I
Доверху наполнена грудь (дверь срывая с петель,
Врывается на небо Ветер, бранясь, как погонщики мулов).
Кипящий нектар непогоды я, вымокший Шмель,
С цветка – небосклона сосу. И хмелею. И, с гулом,
Под щелканье ивовых веток, под иволги звон горловой, —
Я, бочка рифленая, тяжко кручусь над травой.
II
Ах! Сапфо сама – этой иволге – грудь прострелила
Тяжелой строфой – и боль ее в песне спалила.
III
Решетку мышиных горшков – ткала Ипокрена, —
Жужжаньем больна! Где ромашек прибойная пена,
Из лесу олень, жук рогатый – из мха – выходили
И мерялись силой. И оба-себе – победили.
IV
Шмели же – от веку дрались с аравийскими львами.
И грозно вонзали в них жала, махая крылами.
Бог помощь могучим шмелям! Корабли потопляющим.
Коробок XIV
Огненный огурец
И ведь дело не в том, что идея, и даже не в том, что плоха,
Да какая бы ни была… всё одно человек-блоха,
Проживающая своё пусть с идеей, пусть без неё,
Пусть как древледремучий философ, пусть как чистое дурачьё.
Вот такое приходит в голову, когда садишься в эле-
ктропоезд на Павловск… лысый дядя навеселе,
И думаешь: если б Бродский не придумал анжамбеман,
С кем бы тогда рифмовался он, в чьей руке не стакан,
А пивная бутылка. Крепкое. Сущий яд.
Один из нас едет на Третью Платформу, второй же – в ад,
Где жена вместо чёрта и вилы раскалены,
Чтоб вонзиться в мягкое… а, может, и нет жены,
Тогда нестирана наволочка, грязная голова,
В телевизоре жизнь, превращённая кем-то в слова,
Братан, я тебе сочувствую. Стайка цыганок в джинсе
Села на станции Купчино. Как изменились все
Эти цветастые платья, памятные с тех лет,
Когда «Лебединое Озеро» был неплохой балет,
С тех лет, когда было проблемой купить билет,
С тех лет, когда станция Вырица, полная дикарей
На лошадях, слепоты куриной, клевера и шмелей,
Меня принимала ребёнком. Родительский день. Мать с отцом,
О том, что они разведутся, им самим неизвестно. С лицом
Мадонны мать разворачивает курицу. Помидор,
Огурец, крупная соль, о глупостях разговор,
С нами девочка Света, чья мать-одиночка к ней
Не приехала, с нею папа и мама нежней,
Чем со мной, это чуточку злит, но совсем не всерьёз,
По дороге скачет цыган на лошади. Блеянье коз.
Жизнь прошла, как азорские острова… ха-ха-ха,
Какая дурацкая строчка: проплывая мимо, слегка
Под хмельком, сказануть такое можно, а тут… а тут
Императорский Павловск мимо, трупы, призраки, тени идут,
Проверяют билеты у пассажиров, тридцать рублей
Безбилетный проезд, если ж денег нет хоть убей,
То, наверно, в живых оставят по своей неземной доброте.
Цыганки выходят. Посёлок. Приехали. Здравствуй, отец.
Чернолик как цыган, подвыпивший, живущий с охотничим псом,
Сидящий в саду под вишней за большим уютным столом,
Всю жизнь положивший в фундаменты, которые разнесло
Время в дребезги. Намертво жизнь заснежило, замело
Время. Как ненавижу время я, обессмысливающее даже рост
Шиповника! Подъяремные быколюди тянули воз
И притянули к вишне, где отец, забывший, зачем
жил.
Мне, всем нам, исчадиям НКВД, простишь ли? Прости мне!.. нам всем.
Я сеятель соли на улицах ночи,
И я не вельможа, но я что-то вроде,
Я снежные тучи с земли прогоняю,
Слова жадных губ на другие меняю.
Лопата – псалтирь и канон мой торжественный
Слагает из снега и жести божественной.
Ритм, ритм движений свеченьями дружен
Крыш, ждущих рассвета. Весь город завьюжен,
Я сеятель соли, я шаркаю бритвой
По рыхлому, рыхлому, р-рытвина, рытвина
Пустой мостовой скорый шаг замедляет,
А соль выпадающий снег растопляет.
Лишь хриплое пение голоса жести,
И снег зарычал, и завыл, против шерсти
Зверь белый-пребелый задет, клок валится,
И чёрная перед ногами страница.
* * *
«Я пишу тебе через силу, постарайся меня понять…»
Я пишу тебе через силу, постарайся меня понять.
Умирать надоело, милый, достало меня умирать.
Если чем я и жив, то тем, что пишу эти строки, и – всё.
Стать одною из них я хотел бы, пусть бы в воздух меня унесло.
Или если неосквернённый есть на земле ещё храм,
Я хотел быть в нём колонной, я за это всю жизнь отдам.
А пока война и заботы – что ж, видать, это доля моя —
Канониром стоять у штирборта твоего корабля.
И прошу я, как просит воин в пороховом чаду:
Дай Ты мне избежать пробоин. Знаешь, правым я галсом иду.
Дай, чтоб то получил убивец, что мне предназначить хотел.
Дай, чтоб парус, твой голубь, любимец, не осиротел.
1. Доволен раб. Послушный – Небу мил,
Кто на пути греха – души не утомил,
Хлеб не ломал с шутом,
к смутьяну в дом не хаживал:
2. В алтарь Учения сердцебиенье каждое
…И день, и ночь носил…
Припев:
Алли-луйя! Чей к небу шаг – доволен он,
Ведь шаг судьбы такой – он Громом проложён.
Алли-луйя – храня Небесные слова,
Доволен раб лучом – из сердца Божества.
3. Добру весь день учась, пребудет он, как дерево,
Чьё семя при воде упало, возрастать.
В срок – плод его ветвей, зимою не растеряна
Окажется листва, и честь, краса, и стать…
Дано всем действиям послушных рук – блистать.
Припев:
А чёрных дел он не свершал, постыдных дел,
Кто шёл путём небес, как горный снег он – бел.
4. Не так паршивцу, и шуту:
Не так написано,
Сметётся после молотьбы он с камня лысого
На землю шелухой. Увидят страх они.
5. И не войдут ни победить в судах они,
Ни со святыми хлеб им преломить,
6. Понеже
Дух знает путь Святой, кто прожил зло, тот – не жил.
Исповедь, это не – прошлое
Сделать по-прежнему прошлым,
Это прошенье души —
Счесть моё зло ненарочным,
А для души нет времён —
Время скромней её ранга.
Вечность истратит патрон,
Свищет душа – наша ранка.
Исповедь – я; и – Закон,
С Богом мужское танго.
Пишу тебе подобие ответа —
Пророчества сбываются, мой друг,
Читай… пока не требует поэта
К священной жертве своевольный Дух,
«Окстись, брат»! – рявкнул старший, – «Бог
Закатанных, – нас держит в банке,
Как огурцы для после пьянки»… —
«Будь», – улыбнулся младший, – «спок!
Нет банок. В ноздри Дух живой
Бьёт, как укроп на огороде.
А в банку – суй… найдёшь – в народе
Вдруг огурец есть огневой».
Во все века, у всех культур
Есть парни… «не в себе немного».
Неосторожно верить в Бога —
Причуда избранных натур.
Вот миг, когда порыв внезапен —
Сказать: «Продлись! Как хорошо»…
Zum Augenblicke dürft’ ich sagen:
Verweile doch, du bist so schön![2]
Могу сказать об этом миге:
Помедли, задержавшись в книге.
Я вспыхнул, Боже, и горю.
Твоя звезда в моей макушке.
Курится дым. Так я курю
Окурки за день до получки.
Такое вот мгновенье, со звездой…
…………………………………………………………
Мыслю, следовательно, существую (лат.)
Дословно это переводится так: «Об этом мгновенье мог бы я сказать: «Помедли (задержись) же, ты так прекрасно!»
Ознакомительная версия.