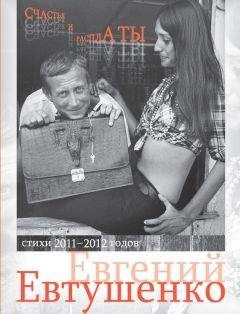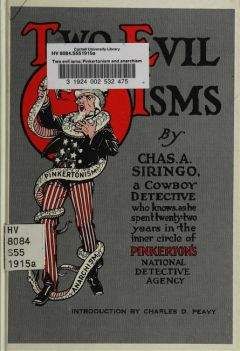Дилемма Маркса
Забыт был Маркс неаккуратненько,
сам перестал марксистом быть,
в объятьях «зэковского» ватника
успев провинности отбыть.
Стал Маркс с надеждой делать выкладки,
когда цунамскою волной
«Позор капитализму!» выклики
вновь сотрясли весь шар земной,
Маркс, на чапаевские выходки
готов,
чуть не вскричал: «За мной!»
Но разум был еще вселенский.
Маркс ощутил, как боль в боку,
что вдруг исчезнет штрудель венский
к божественному кофейку.
И кто тогда сумеет вымести
весь мусор с буйных площадей
в осознанной необходимости,
где нет сознательных людей?
Не разберешь, что кому надо,
Лишь ясно – все передрались.
Весь шар земной – он коммуналка,
где «изм» живой – лишь вандализм.
И в «Бобби», мирного, примерного,
еще пока безревольверного,
решил преобразиться Маркс —
новейший укротитель масс.
Утихомирить всех старается,
оправдывая свой паек,
вкушая между демонстрациями
свой аппетитный кофеек.
Но, впрочем, судя по всем признакам,
как собран он и деловит,
кто знает —
может, с прежним призраком
партнерство он возобновит.
16 октября
Начинающий Ступка
в чупрынной лихой голове
чуть не с детства,
наверное,
выносил
тайный замысел,
а не вымысел, —
стать украинским
Лоуренсом Оливье.
Тот в искусстве велик,
кто велик и в любви.
Он, устав от завидок,
от ранней израненности,
бросил первые аплодисменты свои,
как цветы,
к белоснежным балеткам избранницы.
Но любовь унижают и бедность,
и быт.
Балерине бывало несладко
в нелегкие те пятилетки —
и от очередей,
чтоб хоть что-то для мужа добыть,
и пришлось ей и штопать рубашки ему,
да и собственные балетки.
С пастернаковской Ларой,
Лариса,
тебя я хотел бы сравнить
по страданьям твоим,
непохожим совсем на порханье,
а однажды любовь натянулась, как нить,
и почти порвалась,
но сынишка вернул ей дыханье.
Может быть,
подсказала снежинка,
а может, божинка
или нянька твоя, Украина, как строгая мать:
«А не поворотить ли оглобли нам, жинка?
Ну и что же, что мы развелись?
Почему не жениться опять?»
Так вот вы победили,
друг другом любимые вновь,
оба —
дети похожей на поле сражения сцены.
Что такое искусство?
Да та же любовь,
и оно, как любовь,
не прощает измены.
5 октября 2011, Талса, Оклахома
Среди дебильства пьяного заборного,
бессмертья дур-дорог
и дураков
нас укрепляет здравый ум Задорнова —
дар Щедрина,
который Салтыков.
Когда застой взасос дедуси чествовали,
он разгадал метафоры мои
и за главу мою про Лобачевского
чуть не был исключенным из МАИ.
Мне называть тебя лишь Мишей хочется,
настолько близок ты,
как друг и брат,
и все-таки не забывать и отчества —
глаза отца
из глаз твоих глядят.
Спасибо тебе,
Миша Николаевич,
что, за ухо нас крепенько словя,
ты, как гвоздями,
шутками вколачиваешь
нешуточные горькие слова.
Что женщин ты унизил —
это глупости.
Ни на кого ты зря не нападал.
Прошелся по американской тупости,
а разве нашей ты не наподдал?
Лингвистом, от минобров независимым,
фольклор вобрал устами, как родник,
и как мальчишка
озорнейше высунул
от чужизны очищенный язык!
Жить легче, если жизнь облагородена
и не грязны ни совесть, ни уста.
Что наш Язык? —
он тоже наша родина.
Когда он чист,
и родина чиста.
30 апреля 2012
Кто лучший мой издатель?
Англичанка
Марион Бойарс.
В ней вкус и совесть, видно, не случайно
не жили порознь.
Она была в профессии пристойной
непризнанной,
но гордой королевой
империи портфельной, но достойной.
и с шелестинкой рукописей левой.
Поставила она
фонтаном брызнувший
азарт
на карту.
Не бизнейший был муж,
но самый жизнейший
Кинг Вкуса —
Артур.
Она как любопытный вороненок
в очках рабочих,
а в рукописях —
и похороненных
был клюв разборчив.
Как будто у охотника в болоте,
у ней и ушки были на макушке,
и на прицел был ею взят в полете
Кен Кизи
над гнездом кукушки.
А денежные были катастрофы,
она читала с обожаньем строфы,
какие не хотел читать никто,
которые ей нравились зато.
Издатель,
если он читает книги,
да и стихи, —
в глазах коллег он болен!
А для нее прекрасны были миги
с Кортасаром,
Кэндзабуро
и Беллем.
Она могла быть в гневе ураганом,
но грациозным.
Со мной,
в сибирском детстве уркаганом,
была и другом,
нежным и серьезным.
Не потеряла детскую резвинку.
Была такого маленького роста,
и танцевала в Грузии лезгинку
она —
чуть-чуть не жертва Холокоста.
Мы столько выступали с нею вместе.
В ней была смелость книгополководца.
Мне кажется, что Марион —
на месте.
Ждет рукописей.
Что ж, писать придется.
15 октября 2011
На похороны режиссера фильма «17 мгновений весны» пришла лишь горсточка близких друзей. Одним из немногих, кто навестил ее перед смертью, был исполнитель роли Мюллера в этом фильме артист Броневой.
Любила Танечка Лиознова
полуподпольно,
партизанисто.
Не знала вовсе горя слезного,
поскольку слишком была занята.
Была так долго бесквартирница,
влюбилась, выглядя не выхоленно,
лишь в ею созданного Штирлица,
но уж совсем-совсем не в Тихонова.
Забытая, бровей не хмурила —
мечтала —
вот найти бы внучку!
Был поцелуй последний —
Мюллера
в ее ребяческую ручку.
Апрель 18, 2012
Сказала Культуре Политика:
не выпить ли нам пол-литрика?
и не поговорить,
но без галстука,
а то ты чего-то погаснула?!
На Вы отвечала Kультура:
«Я дочка Гомера, —
Катулла
и Пушкина, и Чайковского,
но смотрите что-то косо вы.
Не вижу совсем уважения
ко мне,
к образованной женщине».
Политика тут разобиделась:
«Но ты же
одна разорительность.
Большого театра арии
нам стоят дороже всей Армии.
Нам новые технологии
нужны,
а тебе антологии.
Банановой-нановой нации
на кой Мандельштампы и Надсоны!
Да ты постыдилась бы жаловаться.
Что просишь —
тебе все пожалуйста». —
«Не все…» —
ворчанула Культурочка,
лягнувшись,
как Сивочка-бурочка,
с начальством не то что ругающаяся,
но просто частенько лягающаяся…
Политика ей:
«Я вот она,
Взгляни, как людьми я измотана.
Что гении, что бездарности —
от всех никакой благодарности.
Читаю про все потрясения
шифрованные донесения,
и так это все выматывает,
что не до стихов Ахматовой.
Тут не поживешь вприпрыжечку.
Ты мне присоветуй книжечку,
не скушную,
но и не стебную,
по части советов подробную…» —
«Читали «Сто лет одиночества»?» —
«Полкнижки…
Двухсот лет не хочется…
Победы —
лишь одномоментия!
А дальше —
в отставку, Буэндиа!
Поэтам скажу:
я,
Политика,
завидую вам,
но поймите-ка,
на плечи взвалить катастрофы
потяжелее, чем строфы…» —
«Но в тютчевском четверостишье
Россия написана так,
словно свыше… —
напомнила не без такта
Культура. —
Согласны вы?
Так-то!»
И вместе тогда они выпили,
как будто из времени выпали.
В России Толстого, и Сахарова,
и царственного Освободителя,
что сделать, чтоб чисто,
без заговора,
мы антихолопство увидели?
Родимая наша Евразия,
когда воплотится фантазия,
пусть даже не скоропалительно,
в тебе,
навсегда не понурой,
культуре стать высшей политикой,
политике —
высшей культурой?!
8 апреля 2012
Памяти Артема Анфиногенова