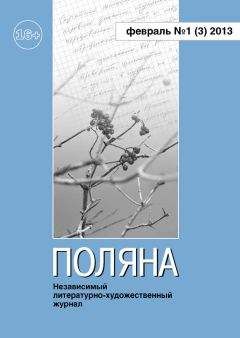Стали участок обиходить, да путики [4] на песца в тундру тянуть. Били моржа, лахтака, нерпу. Ворвань [5] в бочки закатывали. На «босого» [6] отдельной план был. Для себя оленя били, мясо совсем другое.
«Босого» ли нерпу как ни готовь – все ворвань, все рыбой пахнет. Варишь шти – оно уха!
Я мальчишком-то и в рот взять не мог, уж потом привык…
II
Дед Маркел вздохнул и продолжил:
– Было то в начале ноябрю. Длинна ночь [7] тока началась. Солнца, сам знашь, уже нету, а рассвету – часов пять, хватат по ближнему путику пройти. В тот день щё тихо было, да луна на всю. Идем вдвоем с братом старшим шестериком-упряжкой. Открывам капканы-пасти. Ввеселе, в охотку рады: тятя похвалит!
Возвертаемся довольные. Собаки наддали. А тут, гля, у самого порога сбились в кучу, скулят и хвосты жмут. Что т-т-акое?
Когда гляжу – Господи Сусе Христе! Волк агромадный у стены и в окошко заглядат! А там маманя белей снега. Ну, брат – карабин.
А палец придержал: у волка колесо на спине!
Тут собаки накинулись. Враз алыки спутали. Кто на волке висит, кто на друг друге – куча мала!
А зверь в угол жмется. В лапе палка навроде пики, а на спине уже не колесо – половинка. У меня – мураши по телу.
И что делат? Вожака да второго у нас на глазах кончил.
Остатни псы отскочили. Лают, заходятся, аж звон в ушах. Смотрю – приподнялся прыгнуть вроде. ГЦас остатнех собак переколет!
Тут я, должно, заорал.
Распрямился под луной. Не зверь. И не человек. Не лицо вообще. Оборотень!
Я пуще ору, а брат нажал навскидку…
Не сразу и опомнились, уж когда маманя фортку открыла:
– Савва, Савва, не стреляй – человек!
Ну, уж поздно: упал…
Подошли мы. И она с фонарем. Посветили. У меня колени подогнулись. Никак, убил!
Левая половина лица – человек, правая – нет. Все кривь-кось изорвано, синё да бугристо, вместо глаза – яма. Жуть!
И не колесо на спине, а лук, на доску приделанный. Арбалет!
Может, думаю, не убил братан, ведь не целил. Давай мы его в дом перетаскивать. Рослый, крупный мущина. Весь зарос буйным волосом и весь седой. Уложили на пол у печи.
Одежа на ём – шкурьё. Шуба волчья. Нахлобучка на голову с волчиной же головы пошита. Хрящ с ушей не вынут, засохли, торчат как всамделишны. Сдаля – ну волк и волк… На ногах бахилы [8] со шкуры «босого».
Мы давай мужика раздевать, да серце слушать.
А чуть слышно его. Пуля – посередь грудя…
Два фонаря поставили. Давай его мыть-перевязывать. Спрашивать, кто такой, откуда?
А он дышит тяжко. Кровь с половиц матушка тряпкой собират…
У нас слезы сами текут. Видать, в беде человек. Видать, давно.
Длинна ночь, мороз да зверь. К людям вышел – а тут пуля!
– Прости, мил человек, – Савва ему кричит, – прости за ради Бога! Нечаянно я – прости. Не умирай, не умирай – живи!
Он смотрит однем глазом, и в глазу том, не поверишь, радоссь!
– Кто такой, – кричу ему, – кто такой, откуда, говори!
А у него тока кадык ходит.
А потом руку на ранку, и пальцем на печи написал, – дед Маркел обмакнул корявый палец в кружку с остывшим чаем и вывёл на столе мокрым: «NORCE».
Помедлил чуток и приделал к предпоследней букве крючок-уголок. Получилось: «NORGE».
– Да, вот так, по буковке.
Красным по белому.
И все. Глаз закрыл, дышать – тише, к утру отошел…
Мы с братом чуть не рехнулись тама: такой грех на душу!
III
В другой день отец подъехал с длинного путику.
У нас-то язык не ворочается, матушка рассказала.
«Ладно, – ей говорит, – грей воду, обмыть-хоронить», – на нас и не смотрит…
Как стали мужика раздевать – за гленищем у него нож настоящий, кованной. А человеческой одежи и ниточки нету. Сподники – и те с пыжика [9] . Когды раздели навею – не тока лицо, вся грудь покарябана и заместо правой ступни – культя багрова.
А лицо, как «босой» ударил, глаз выбил, да кожу сорвал, видать, сам шил. Все кривь-кось заросло, смотреть страшно. А скока лет – не угадать, седой весь, белый… И тощой: кожа-кости.
Но мастеровой: под ступню у него протез самодельной. В правом бахиле по бокам досточки вшиты и подошва крепка, чтоб без костылей, значит.
Где хоронить? Тут, на бережку, скала да галька. В мороз не взять.
Отвезли подале в тундру на песчано место. Костер запалили.
Отогрем, раскидам головни, талое выберём и по новой. Там и положили. Тятя «Отче наш» прочел и засыпали мерзлым, да бревен сверху навалили от зверя.
Мы, все четверо, грамотны. Я дак вовсе три класса кончил, пока старшим в подмогу пошел. Ясно – не наши буквы на печи писаны. А что это: корабль, имя ли, фамилие – уже не спросишь.
Начальству заявить – раций не было. На собаках двести да полсотни верст до поселку. И стока ж обратно. Да в длинну трехмесячну ночь семью бросить?
Остался тятя. Нам молчать велел. Мертвого не подымешь, а люди разнесут как сороки; объясняй потом «товаришшам»: нечаянно, мол.
И Савве крепко наказал: «В голову не бери и дурного не задумливай: мать погубишь. Бог правду видит, а мы молиться будем за душу невинную».
Я же думал: «Как молиться, когда он без креста на шее? Может, и не крещеной навсе?» Ни даже у него кольца на пальце или серьги в ушах как быват у моряков.
Ну – делали, как отец велел. Да все поначалу втихаря за Саввой приглядывали, не сотворил бы чего над собой.
Работы в ту зиму было невпроворот: песец шел – мы не успевали снимать, матушка – шкурки мездрить. И «босого» за двадцать взяли, а ты и одну-то шкуру выскобли – руки отпадут. Да дрова пилить – каждодневна каторга. Тут не до глупостев. Вечером чуть живы на лежанки падали, с утра – по новой вперед.
А в лето, как мерзлоту отпустило, поехали мы с отцом на могилку, все в аккурат заровняли и дёрен-мох настелили – тундра.
IV
– Про торбу-то я тебе щё не сказал. Приём была на поясе.
В мешочке том чуть мяса сушеного оленьего и нерпячьего, да в чехле берестяном две иглы. Костяна и железна. А железна из проволки без ушка, просто загнут конец нитяной. Щё нож из обруча, как море, быват, бочку выкатит… Мяхко железо, негодно, об камень точено. Тока жир с нерпы срезать, да шкуры скоблить.
И стрел несколько. Тяжёлы и лёхки стрелы. Арбалет же хитро сработан: три досточки лиственничны друг на дружку наложены, жилкой прошиты, а зацепа для тетивы передвижна. На малу натяжку и на болыпу.
Тогда и поняли, зачем тот крючок на ремне.
На малую – руками можно натянуть, если в ногами на лук стать. А чуть зацепу к себе передвинешь – тока крючком поясным. И крепко бьет: на двадцать шагов доску прошибат. От удара и наконечник костяной, и стрела – вдребезги!
Я с того малого натягу наловчился утей да нерпей бить – наши диву давались. Летом ведь тонет нерпа, еслив с карабина. Наскрозь голову шьет. Кровь – дугой, и булькотит на дно… А с арбалету, вишь ты, нет. Стрела в ране застреёт, крови мало, успевашь подгребсти, на гарпун задеть.
Щё с ружья-то шум. Раз стрельнул, всех распугал. А с арбалету – тихо. Я в то лето не меньше взял, как отец с братом.
На равных стал им связчик [10] – зверобой. Гордой был: они мне стрелы готовили. Самы ловки тятя делал. Точно ишли, не ломались, по стока-ту раз одну пущал.
А в другой год возможность стала на Моржовую переехать. Тут до поселка, до почты, до радиво тока сорок верст. В один ход собакам. Зажили мы как люди, а потом война…
Дед Маркел воткнул шило в столешницу, и спросил тихо:
– Ты ведь грамотной, что такое «NORGE» не знашь?
– Знаю, – мне стало не по себе от пристального взгляда старика.
– И што жа?
– Так свою родину называют… норвежцы.
V
Снежно-белая глыба дедовой головы качнулась над столом:
– Пора, паря, чай пить!
За чаем разговор пошел о другом. Когда собрался я уходить, Маркел Мелентьич поднялся тоже:
– Пойдем-кось, покажу чего.
Мы поднялись на горку за домом, оттуда поселок как на ладони, видно сбегающие в бухту огни, да крупно мигает маяк.
– Вишь Большого Никифора? – Дед указал на памятник Бегичеву [11] , ярко освещенный прожекторами.
– В двадцать втором годе Бегич тут, на бережку, скелет нашел. Видать, недавней: щё волосы на голове целы. Километра три до поселку не дошел человек.
А уже известно было, что в девятнадцатом годе два норвега с Челюскина ишли, да пропали. Собрал Бегич людей, стали искать кругом. И нашли мешок с поштой да лыжи на речке Зеледеевой, это верст семьдесят отсюда.
Прописали в газетах: Главный ихней искпедиции, Амунсен ему фамилие, двоих с мыса Челюскина отправил на собаках в середине октябрю. Пошту везли, да и метео-радиво уж тут с пятнадцатого году стояло.
А пути тока по карте восемьсот верст. Всамделе на собаках-то щё сто накинь. Ну, один пропал, второй не дошел. По догадке Бегича, – уж огни увидал, заспешил, подскользулся и – затылком об камень… Не судьба…
Норвега этого тут и похоронили на бережку, где нашли, и камень большой поставили, имя написали. Видал, небось?
– Знаю, как же. «ТЕССЕМ» – написано на памятнике.
– Во-во… А второго искать правительство ихнее щё тогда Бегича снарядило. Долго искал. Вдоль всего нашего берегу, устье Пясины обошел и острова дальни. Ну, не нашел – Артика…