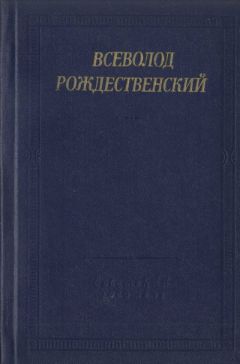203. НЕКРАСОВ
Зеленая лампа чадит до рассвета,
Шуршит корректура, а дым от сигар
Над редкой бородкой, над плешью поэта
Струит сладковатый неспешный угар.
Что жизнь? Не глоток ли холодного чая,
Простуженный день петербургской весны,
Сигара, и карты, и ласка простая
Над той же страницей склоненной жены?
Без сна и без отдыха, сумрачный пленник
Цензуры, редакций, медвежьих охот,
Он видит сейчас, развернув «Современник»,
Что двинулся где-то в полях ледоход.
Перо задержалось на рифме к «свободе»,
И слышит он, руки на стол уронив,
Что вот оно, близко, растет половодье
На вольном просторе разбуженных нив…
Иссохшим в подушках под бременем муки —
Таким ты России его передашь,
Крамской нарисует прозрачные руки
И плотно прижатый к губам карандаш.
А слава пошлет похоронные ленты,
Венки катафалка, нежданный покой
Да песню, которую хором студенты
Подхватят над Волгой в глуши костромской.
И с этою песней пойдут поколенья
По мерзлым этапам, под звон кандалов
В якутскую вьюгу, в снега поселений,
В остроги российских глухих городов.
И вырастет гневная песня в проклятье
Надменному трону, родной нищете,
И песню услышат далекие братья
В великой и страстной ее простоте.
<1928> — <1956>
Спускайся тропинкой, а если устал ты,
Присядь и послушай дыхание смол.
Вон блюдце долины, вон домики Ялты
И буквою Г нарисованный мол!
Всё ближе и ближе в саду санаторий
Сквозит (как я в сердце его берегу!).
Смеется, и плещет, и возится море,
И пенит крутую лазурь на бегу.
Как дышит оно и привольно и смело,
Какой на закате горит синевой!
Бросай же скорей загорелое тело
В упругую влагу, в слепительный зной!
На запад, где солнце вишневое тонет,
Плыви и плыви, а начнешь уставать —
На спину ложись, чтоб могло на ладони
Вечернее море тебя покачать.
Здесь розы, и скалы, и звонкая влага,
Здесь небо прозрачно, как пушкинский стих,
Здесь вышел напиться медведь Аю-Дага
И дремлет, качаясь на волнах тугих.
Недаром в метелях и тающем марте
Любил ты, тревогой скитаний томим,
Искать благодарно на выцветшей карте
Как гроздь винограда повиснувший Крым.
1928, <1956>
На закате мы вышли к стене Карантина,
Где оранжевый холм обнажен и высок,
Где звенит под ногой благородная глина
И горячей полынью горчит ветерок.
Легкой тростью слегка отогнув подорожник,
Отшвырнув черепицу и ржавую кость,
В тонких пальцах сломал светлоглазый художник
Скорлупу из Милета, сухую насквозь.
И, седого наследства хозяин счастливый,
Показал мне, кремнистый овраг обходя,
Золотую эмаль оттоманской поливы,
Генуэзский кирпич и обломок гвоздя.
Но не только разбойников древних монеты
Сохранила веков огненосная сушь,—
Есть музей небольшой, южным солнцем согретый
И осыпанный листьями розовых груш.
Здесь, покуда у двери привратник сердитый
Разбирал принесенные дочкой ключи,
Я смотрел, как ломались о дряхлые плиты
В виноградном навесе косые лучи.
Старый вяз простирал над стеною объятья,
Розовеющий запад был свеж и высок,
И у девочки в желтом разодранном платье
Тихо полз по плечу золотистый жучок…
Здесь, над этой холмистою русской землею,
Побывавшей у многих владычеств в плену,
Всё незыблемо мирной полно тишиною,
И волна, набегая, торопит волну.
Где далекие греки, османы и Сфорца,
Где Боспорские царства и свастики крест?
Дышит юной отвагой лицо черноморца —
Скромный памятник этих прославленных мест.
На холме, средь полыни и дикой ромашки,
Вылит в бронзе, стоит он, зажав автомат,
И на грудь в обожженной боями тельняшке
Вечным отсветом славы ложится закат.
1928, <1956>
Пыльное облако разодрав,
Лишь на одно мгновенье
Выглянут горы — и снова мгла,
Мутной жары круженье.
Гнутся акации в дугу.
Камешки вдоль станицы
С воем царапают на бегу
Ставни и черепицы.
Поднятый на дыбы прибой
Рушится в берег твердо.
Дуют в упор ему, в пыльный зной,
Сизые щеки норда.
На берегу ни души сейчас:
Водоросли да сети.
Под занесенный песком баркас
В страхе забились дети.
А на просторе, где тяжело
Кружится скользкий кратер,
Мутно-зеленой волны стекло
Рвет пограничный катер.
Стонет штурвал в стальной руке,
Каждый отсек задраен,
В облитом ветром дождевике
Вахты стоит хозяин.
Плющатся капли на висках,
Ветер ножами режет,
В окоченевших давно ушах —
Грохот, и скрип, и скрежет.
Но не мутнеет, насторожен
Острый хрусталик взгляда,
Щупает каждый камень он,
Каждую ветку сада.
В призмах бинокля, дрожа, скользят
За кипятком прибоя
Щебень залива, дома и сад,
Мыса лицо тупое.
В грохоте тяжком, у черных скал,
На грозовом просторе
Поднят уже штормовой сигнал,
Дышит и ходит море…
1932, <1956>
Преодолев мильоны лет разлуки
И пыль пространств, на склоне горных глыб,
Степь и леса друг другу дали руки,—
И родился в пожатье их Турксиб.
Как серый холст разматывая склоны,
Обрывы, ширь и супеси накал,
Уже стучат кирпичные вагоны
В суставах рельс, над быстрой рябью шпал.
Здесь срезав склон, там простучав в туннеле,
Полынным зноем, мятою дыша,
В предгорьях, где по скатам сходят ели,
Струится путь к обрывам Иртыша.
За лес и хлеб, за черный уголь топок
Восток несет под гребешки машин
Меха пустынь — пушисто-снежный хлопок,
Свинец и медь просверленных глубин.
С сибирскими лесами дружат степи
И нити рек в горячем Джетысу, —
И нет прочней товарищеской крепи,
Ведущей вдаль стальную полосу!
От рельс неторопливого изгиба
К синеющим предгорьям, на восход,
Через пески крутой моток Турксиба,
Как нитку счастья, протянул народ.
1932, <1956>
208. ПАРК В ГОРОДЕ ПУШКИНА
(Элегия)
Я помню голубой холодноватый воздух,
Росистую траву и перелесок звёзды,
Дыханье зелени, чуть пахнущей землей,
И тяжкую сирень, омытую грозой.
Я снова вижу парк — и чинный, и сквозистый,
Каскады на прудах и ясень серебристый,
У белой пристани купающий листы,
Где черным лебедем изогнуты мосты.
В мальчишеские дни я с удочкою длинной
Стерег здесь карасей среди ленивой тины,
Дыханье затаив над чутким поплавком,
Пока за озером прокатывался гром,
И туча сизая — большой грозы начало —
Вдруг каплю тяжкую мне на руку роняла,
А молчаливый дождь, нетороплив и синь,
Окутывал тела героев и богинь…
Но знал над городом я и другие грозы…
Гудели в воздухе военные стрекозы,
У Пулковской горы надменный генерал
Бинокль свой наводил на Витебский вокзал
И, огненным кольцом расставив батареи,
Удачу торопил — о, только бы скорее! —
Но, рассыпая цепь среди ботвы сырой,
Мы город Ленина хранили за собой.
Под вражеский сапог отдать мы не хотели
Свободы молодой, а вместе с ней Растрелли,
И бронзовых богов средь золотых аллей,
Куда сквозь листопад еще глядит Лицей,
И тихую скамью, овеянную славой,
Где, на руку склонясь, и смуглый и курчавый,
Слегка задумался, о чем не зная сам,
Тот, чья улыбка — жизнь и кто так близок нам.
Теперь они мои — и клен, к воде склоненный,
И легкая, как сон, Эллада Камерона,
И берег озера, где дряхлых лип верхи
Бормочут в полусне лицейские стихи,
И «Дева с урною», чья скорбь струится вечно,
И комсомольский кросс, и счастья ветер встречный,
И бронза славных дел, и наш воздушный флот,
Что зорко Балтику отсюда стережет.
О парк мой, я сродни твоей листве и птицам…
Всё та же тень ветвей проходит по страницам,
Всё тот же вкрадчивый озерный ветерок
Дыханьем свежести моих коснулся щек,
И сквозь навес листвы, где полдня бродят блестки,
Я узнаю себя в неловком том подростке
На лодке, что скользит покинутым веслом
По глади озера с колонной и орлом.
Как часто для забот, для шума городского
Я забывал тебя и возвращался снова
Уже через года, чтоб в солнечной тиши
Еще раз вслушаться в дыхание души,
Холодным опытом уже отяжеленной,
А ты целил меня беседою зеленой,
Со мною радуясь, волнуясь и скорбя, —
И в каждом тополе я узнавал себя.
Когда настанет день, туманный и осенний,
Тебя, старинный друг, ничто мне не заменит.
Уже в последний раз — зачем, не знаю сам, —
Сквозь моросящий дождь приду к твоим прудам,
Холодным и пустым, где отраженный ясень
Всё так же будет горд, задумчив и прекрасен.
Прямой наследник твой, вдыхая горький дым,
Я передам тебя и юным и иным,
Идущим вслед за мной в веселости беспечной,
Чтоб ты шумел для них и возрождался вечно.
<1938>, <1956>
209. «Он пушкинской сложен строфою…»