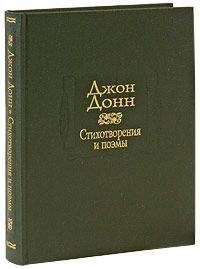Ознакомительная версия.
Оценивая вирши Скельтона, обязательно следует учесть одно важное обстоятельство. Он писал в переходную эпоху, когда фонетика английского языка была на переломе: еще не совершился до конца так называемый «великий сдвиг гласных» и (что еще важнее) статус конечного «е» (читаемое или немое) оставался неопределенным в течение всего царствования Генриха VIII; так что, как вы сами понимаете, писать правильные силлабо-тонические стихи было довольно трудно. Неудивительно, что Скельтон предпочел опираться на ударения и на рифмы.
Рифмы Скельтона, как в русском раешнике, звонки, порой каламбурны. Стиль его можно назвать неудержимым. Он не лезет за словом в карман, мысль его обгуливает предмет со всех сторон, прицепляя к нему множество близких и далеких уточнений и ассоциаций. Это многословие дрейфует в сторону пародии – заметим, пародии сознательной и торжествующей.
Джон Скельтон. Гравюра из книги начала XVI в.
В старости Скельтон гордо называл себя «британским Катуллом». Видимо, он имел в виду необузданный темперамент римского поэта, яростные и не стесняющиеся в выборе выражений сатирические выпады (в частности против Цезаря и его сподвижников), а также любовь к гротеску и преувеличению. Но не только: в словах Скельтона есть, по-видимому, и намек на стихотворение Катулла, посвященное смерти любимого птенчика его возлюбленной:
Плачь, Венера, и вы, Утехи, плачьте!
Плачьте все, кто имеет в сердце нежность!
Бедный птенчик погиб моей подружки.
……………..
Он с колен не слетал хозяйки милой.
Для нее лишь одной чирикал сладко.
То туда, то сюда порхал, играя.
А теперь он идет тропой туманной
В край ужасный, откуда нет возврата.
Именно эти стихи послужили основой для Скельтоновой «Книги воробышка Фила», хотя он подключил в свою поэму и совсем иные традиции – в частности, традицию шутовской (карнавальной) панихиды. А уж от «Воробышка Фила», как нетрудно убедиться, отталкивался поэт XVII века Марвелл в своей антологической «Жалобе нимфы на смерть ее олененка». Так что влияние Скельтона ощущалось и через сто лет после его смерти.
Можно сказать, что Скельтон – первый английский поэт нового времени, то есть первый поэт, которого можно читать без словаря. Это – занятное и полезное чтение. Скельтон ввел в английскую поэзию огромное количество свежих, не бывших в употреблении слов. В частности, в «Книге воробышка Фила» он называет по именам восемьдесят (!) видов английских птиц, собравшихся на похороны. Он отлично владеет сочной народной речью. Например, описывая хозяйку питейного заведения Элинор Румминг (изобретательницу той самой «бражки»), Скельтон замечает, что ее лицо было «как ухо жареного порося, утыканное щетиной». Он умеет смешивать простонародную речь с ученой и библейской терминологией. Он даже смешивает разные языки, переходя на макаронический стиль письма. В особенности он отыгрывает этот прием в своей «постмодернистской» поэме «Попка, скажи!» (Speak, Parrot), в которой попугай-полиглот, нафаршированный ученостью, разглагольствует без умолку и несет всякую околесицу. Основываясь на этой вещи, Скельтона вполне можно считать если не отцом английской поэзии нонсенса, то (во всяком случае) ее славным прадедом.
Чтобы лучше оценить роль Скельтона, полезно взглянуть на его творчество в исторической перспективе. На протяжении почти всего пятнадцатого века английская поэзия пребывала в столь длительном и тяжелом застое, что, казалось, истощилась сама почва поэзии – ее язык. Как пишет один из критиков, после смерти Чосера Гауэр продолжать писать «в духе Чосера, но похуже». После смерти Гауэра Лидгейт и Хоклив продолжали писать «так же, но еще похуже». Под конец века явился Стивен Хоз, который подхватил эстафету и продолжил писать в прежнем духе, но «даже еще хуже, чем Гауэр, Лидгейт и Хоклив». Ясно, что английская поэзия к началу тюдоровской эпохи представляла, по сравнению с Чосером, седьмую воду на киселе. Нужно было заново вскопать почву языка, перевернуть ее свежими пластами кверху. Именно эту работу и выполнил Скельтон. А то, что соха с виду корява, так другой соха и не бывает.
Наверное, ни один писатель в английской литературе не собрал столько живописных эпитетов и кличек, как этот ныне редко читаемый, «эпизодический» поэт, стоящий на грани между двумя эпохами – средневековьем и ренессансом.
Генрих VIII называл его «моим адским викарием», обыгрывая его должность приходского священника в Диссе (Dis по-латыни значит Ад).
Ричард Путтенхем в «Искусстве английской поэзии» (1589) заклеймил его «грубым и ругливым рифмачом, сочинителем нелепостей», Фрэнсис Мерес в «Сокровищнице ума» (1598) – просто «буффоном».
Джон Мильтон назвал его «одним из худших людей, что умело и усердно впрыскивают свой яд в окружение правителей, знакомя их с отборными описаниями и критиками пороков».
Классицист Александр Поуп кратко припечатал его «скотским Скельтоном» („beastly Skelton“).
Некоторые критики договорились до того, что якобы «развращающее воздействие этого сквернослова и грязного негодяя легло в основание всех будущих преступлений его царственного ученика» (Агнесса Стрикленд, 1842[1]).
Джон Скельтон. Гравюра из книги начала XVI в.
А вот утонченная и умная поэтесса Элизабет Браунинг (жена Роберта Браунинга) им открыто восхищалась. Да, признавала она, это – настоящий «санкюлот красноречия», «Силéн, приходящим в пьяный экстаз от собственного негодования», «сатир в поэтах». В своем восхитительном господстве над языком он, как зверь, разрывает его когтями и зубами – дико, яростно, скорее уничтожая, чем созидая. «Но нашим последним словом о Скелетоне, – заключает Элизабет Браунинг, – должно быть то, что он, вне всякого сомнения, оказал благотворное влияние на поэтический язык. Он был автором, уникально подходящим к задаче разглаживания всех узлов веревок, растягивания их до последней возможности. Грубый работник за грубой работой; могучий, грубый Скельтон!»[2]
КНИГА ВОРОБУШКА ФИЛА,ИЛИПЛАЧ ДЖЕЙН СКРОУП,УЧЕНИЦЫ МОНАСТЫРСКОЙ ШКОЛЫ В КЭРОУ,ПО СВОЕМУ МИЛОМУ ДРУЖОЧКУ,ПОГИБШЕМУ ЗЛОЙ СМЕРТьюОТ ЛАП КОТА ГИЛьБЕРТА(отрывки)
Heu, heu, me![3]
Горе, горе мне!
Ad Dominem, сum tribularer, clamavi:[4]
Сохрани и избави,
Боженька милый,
Душу воробышка Фила
От адовой черной пасти,
Где мрак и всякие страсти, –
От темного Ахерона,
Подземной реки студеной,
А тако же от Плутона,
Владыки бездны бездонной,
А тако же от Эринний,
Духов мертвой пустыни,
А тако же от Горгоны,
Змееволосой матроны,
А тако же от проклятой
Мегеры, ведьмы патлатой, –
Да не спалит ее факел
Крылышек моей птахи, –
А тако же от Прозерпины,
Влекущей в мглы и трясины,
И от Кербера же паки,
Злющей адской собаки –
Страшной, со ста головами,
Гремящей во тьме цепями,
Неусыпной и лютой, –
Но крепко однажды вздутой
Доблестным Геркулесом.
Заклинаю Зевесом:
Сохрани и избави,
Cum tribularer, clamavi,
Воробышка моего! Амен.
Повторяйте за нами.
Do mi nus!
О сладчайший Исус!
Levavi oc
ulos meos in montes[5],
Слезами моими троньтесь,
Ангелы в вышних!
О Боже, услышь в них,
В каждом вздохе и всхлипе
Скорбь мою о Филипе –
О дорогой моей, милой
Пташечке быстрокрылой!
Я, как та Андромаха,
Что, от горя и страха
Оцепенев на месте,
Внимала черной вести
О смерти Гектора, мужа,
Вот так или еще хуже
Я на месте застыла,
Узнав, что взяла могила
Воробышка моего Фила.
А и был он плутишка,
Глупый мой воробьишка!
Обучен моей науке,
Знал он всякие штуки.
Скажу: «Поклюй из ладошки!» –
Все подберет до крошки.
А положу между грудок –
Тотчас, ловок и чуток,
Клювиком пощекочет –
И все достанет, что хочет.
А накрошу на колени –
И там, не ведая лени,
Покопошится малость
И доклюет, что осталось…
Рано утром, бывало, –
Я еще не вставала, –
К сонной ко мне подлезет
И, как блажной, куролесит,
Будит меня, как кочет,
Крылышками хлопочет,
Перышки все взъерошит,
Ластится и тетёшит.
Видит Бог, мысли грешной
Нет в его грудке нежной,
В бархатной сей головке –
Ни малейшей уловки.
Я ему разрешала
Лазить под одеяло;
А ежели больно клюется
Иль далеко заберется,
Знаю я свою крошку:
Это он ловит блошку.
…………….
К мести, к мести взываю,
Боженьку умоляю:
Накажи поскорее
Отъявленного злодея
И всю их породу котовью;
Пускай заплатят кровью
За смерть воробушка Фила;
Уж как я его любила,
Как я его растила!
А ты, бесовский котище,
Ужасный, хитрый и хищный,
Чтоб лопнуть твоим глазищам!
Чтоб в лапы ты к леопарду
Попал за свою неправду,
Чтобы тебя он мучил,
А ты стонал и мяучил;
Чтобы в пустыне ливийской
Встретил ты василиска,
Чьи смертоносные взгляды
Губят всех без пощады;
Чтобы черти лесные,
Мерзостные и злые,
В чаще тебя поймали
И на куски разодрали;
Чтобы с гор мантикора,
На убийцу и вора
Спрыгнув, как на мышонка,
Вырвала ему печенку;
Чтоб Меланхет, который
Первым из гончей своры
Клык вонзил в Актеона,
Мчащего ошеломленно
Через бугры и ямы, –
Чтоб Меланхет тот самый
В горло тебе вцепился,
Крови твоей напился!
Чтобы дракон Уэльса
Твой требухи наелся;
Чтобы медведь толстобрюхий
Рыча, отгрыз тебе ухи;
Чтоб Ликаон с личиной
Оборотня волчиной
Сгреб тебя на погосте,
Переломал тебе кости!
Чтобы пламенем Этны
(Загасить его тщетны
Все ливни, сколь их ни лило)
Хвост тебе подпалило;
Чтобы ты в страхе метался –
А мир на то любовался:
От Оксфорда до Йоркшира,
От Кента до Девоншира –
Весь мир – от моря до моря –
На это кошкино горе.
Что, худо? А птенчика Фила,
Которого я любила,
Зачем умертвил ты, злюка?
Так поделом коту мука!
Ознакомительная версия.