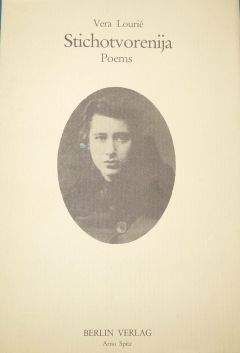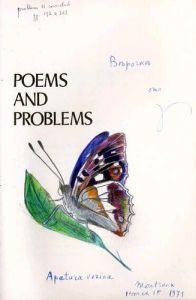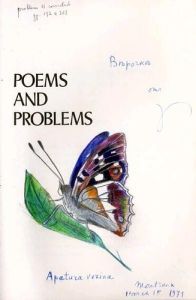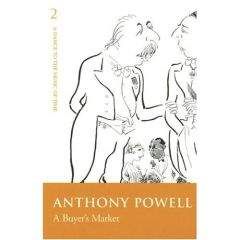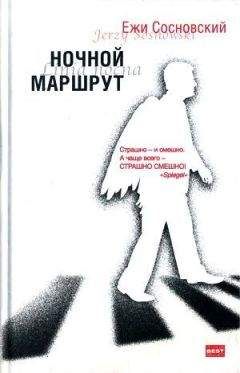Гроза
Звон колокольный и грома раскаты,
Воздух прорезал огонь.
Верно промчался по небу крылатый,
Бледный, евангельский конь.
Всадник высокий с лицом преисподней,
С острым кровавым мечом,
Людям приносит он кару Господню.
Дождь все стучит за окном.
В комнате пахнет любовной истомой,
Тело сжимает тоска.
Снова придет ко мне рыцарь знакомый,
Узкая в кольцах рука.
Взгляд точно бездна: страшит и ласкает,
Знаю желанья грешны…
«Милая право никто не узнает,
Видишь, совсем мы одни»…
Небо так мрачно и грома раскаты.
Бледный евангельский конь
Быстро по небу промчался крылатый.
Землю прорезал огонь.
Я люблю в галерее старинной
Странный запах умерших дворцов,
Боттичелли и Винчи картины,
«Севастьяна» без муки лицо.
Золотистые, синие краски
И наивная правда мадонн
Зачаруют особенной лаской,
Словно хрупкий и праздничный сон.
По утрам здесь так тихо, безлюдно,
Только сторож на стуле уснул.
Помолюсь о душе своей скудной
И губами к мадонне прильну.
«Я сегодня пошла на Неву…»
Я сегодня пошла на Неву.
Небо хмурое, дождь моросит,
Пароходы бесшумно плывут
И безмолвен холодный гранит.
Я так рада, что пусто кругом,
Нет далеких, ненужных людей.
Только думаю все об одном:
О дороге туманной своей.
Не любить, позабыть навсегда
Ваш холодный, насмешливый взгляд,
Но мне больно, так больно отдать
Поцелуи и ласки назад.
«Церковь от солнца сквозная…»
Церковь от солнца сквозная.
Десять, все тихо кругом.
Белый свой дом не узнала
В том переулке пустом.
Звон этот, звон колокольный.
Что же случилось со мной.
Буду для всех я спокойной,
В сердце осталось пятно.
С жадной, настойчивой силой,
Черным железом звеня,
Милые, милые, милые,
Ночь оторвала меня.
«В дальний ящик стихи запрячу…»
В дальний ящик стихи запрячу,
Книг не нужно, не буду читать.
В моей комнате прежде опрятной,
Всюду, всюду от пыли печать.
Да и я от бессонницы стала,
Точно в чае набухший лимон,
Все брожу я без дела устало
И боюсь заглянуть на трюмо.
А мне раньше всегда казалось,
Что любить легко и светло,
И я раньше совсем не знала,
Что любовь такое зло.
«Точно злая мачеха, косматая…»
Точно злая мачеха, косматая,
Под густым, узорчатым платком,
Жизнь брови темные нахмурила,
Обняла колдующей рукой.
Вот иду знакомою тропинкой,
Низко, низко голову склонив.
Я устала, так длинна дорога,
На деревьях жалоба звенит.
Это просто ветер их колышет.
Скоро солнце алое зайдет.
Только знаю, знаю я наверно
Буду много плакать в этот год.
Оттого, что косу свою длинную
Не сумела туго заплести,
Оттого, что песню свою звонкую
Не сумела удержать в груди.
«Мои сны теперь стали легки…»
Мои сны теперь стали легки
И прохладна большая кровать.
Я забыла любви слова,
Теплоту чьей-то тонкой руки.
Только снятся мне сноп золотой,
Синеватая озера гладь,
Сад рябиновый, дом простой,
Белой церкви кресты, купола.
В белой церкви молилась Христу.
В доме этом когда-то жила,
А потом ушла в темноту
И искала зарытый клад.
Заколдованный клад не найти.
Я устала, устала искать,
А обратно не знаю пути.
Как прохладна моя кровать!
ПЕТРОГРАД — БЕРЛИН. 1921–1922
На смерть Гумилева («Слишком трудно идти по дороге…»)
Слишком трудно идти по дороге,
Слишком трудно глядеть в облака.
В топкой глине запутались ноги,
Длинной плетью повисла рука.
Был он сильным, свободным и гордым
И построил из мрамора дом,
Но не умер под той сикоморой,
Где Мария сидела с Христом.
Он прошел, спокойно, угрюмо,
Поглядел в черноту небес;
И его последние думы
Знает только северный лес!
Иду быстрей по Невскому вперед,
Куда, зачем не знаю и сама,
Но только прошлый не вернется год
И будет новой снежная зима.
Я вспоминаю Мойку всю в снегу,
Его в дохе и шапке меховой
И с папиросой дымною у губ,
И то, как он здоровался со мной.
Потом, прищурив глаз, лениво шел
К столу, где мы садились в длинный ряд,
Клал папиросы медленно на стол.
Я не увижу больше серый взгляд.
Из ресторанных глаз пронзает свет,
Томительно зовут, зовут смычки.
По Невскому проспекту сколько лет
Отстукивают осень каблуки.
А небо вызвездило слишком рано.
Стою и щит в протянутой руке,
И вижу шар земной во мгле багряный
Стал родинкой на девичьей щеке.
Где заклинанье верное, где слово?
Как я нарушу силу колдовства?
Кругом все пусто, никого живого,
И только жутко шелестит листва.
Вдруг в небе туча черная повисла
И барабанный бой гремит, гремит.
Неведомые, огненные числа
Легли дождем на мой склоненный щит.
«Ради слов коротких и длинных…»
Ради слов коротких и длинных.
Ради трудных, бессонных ночей,
Забываю и небо синее
И томленье пустынных дней.
Вдаль уходит осенний вечер,
Слышны взмахи ночного крыла.
Восковые мерцают свечи.
Я когда-то раньше жила.
И во власти ночного дурмана
Вспоминаю иные слова,
А в груди расширяется рана
И все шире в глазах синева.
Неожиданно утро настанет.
Я усталой, холодной рукой
Открываю тяжелые ставни
Под напевы чужой мостовой.
«В платье из рыжего ситца…»
В платье из рыжего ситца,
В сером, линючем платке,
Скоро месяц колдует вдовица
И гадает любовь по руке.
Отвисают тяжелые груди,
Улыбается чувственно рот,
Выступает округлый живот
И зовут ее осенью люди.
Два коричневых, толстых жука
Подползают глаза его ближе.
Тело сжала чужая рука
И дыханье горячее лижет.
«От бессонницы ломит тело…»
От бессонницы ломит тело
И колени трудно согнуть.
Скоро город оставлю белый
И ступлю на солнечный путь.
Но два глаза вползли в мою душу,
Обожжен поцелуем рот.
Листья падают глуше и глуше,
Ветер кружит их желтый полет.
Эту встречу нигде не забуду,
Как и дымный город ночной.
И желаньем томиться буду
И чужою, не русской зимой.
Рояль — в тюрьме бренчат оковы,
Бросает люстра косо свет.
Но просижу всю ночь я снова.
Кругом столы — дороги нет.
Сквозь пелену густого дыма
Мелькают прошлого огни,
Морозные, крутые дни,
Антоновкою пахнут зимы.
Пронзенный солнцем старый дом
И ночью легкость сновидений,
А в детской розовые тени
И шар воздушный с петухом.
Звенят ненужные напевы.
Часам я потеряла счет,
Но тот стоит у двери слева,
Чей жадный взгляд ответа ждет.
«Чтоб она так громко не звенела…»