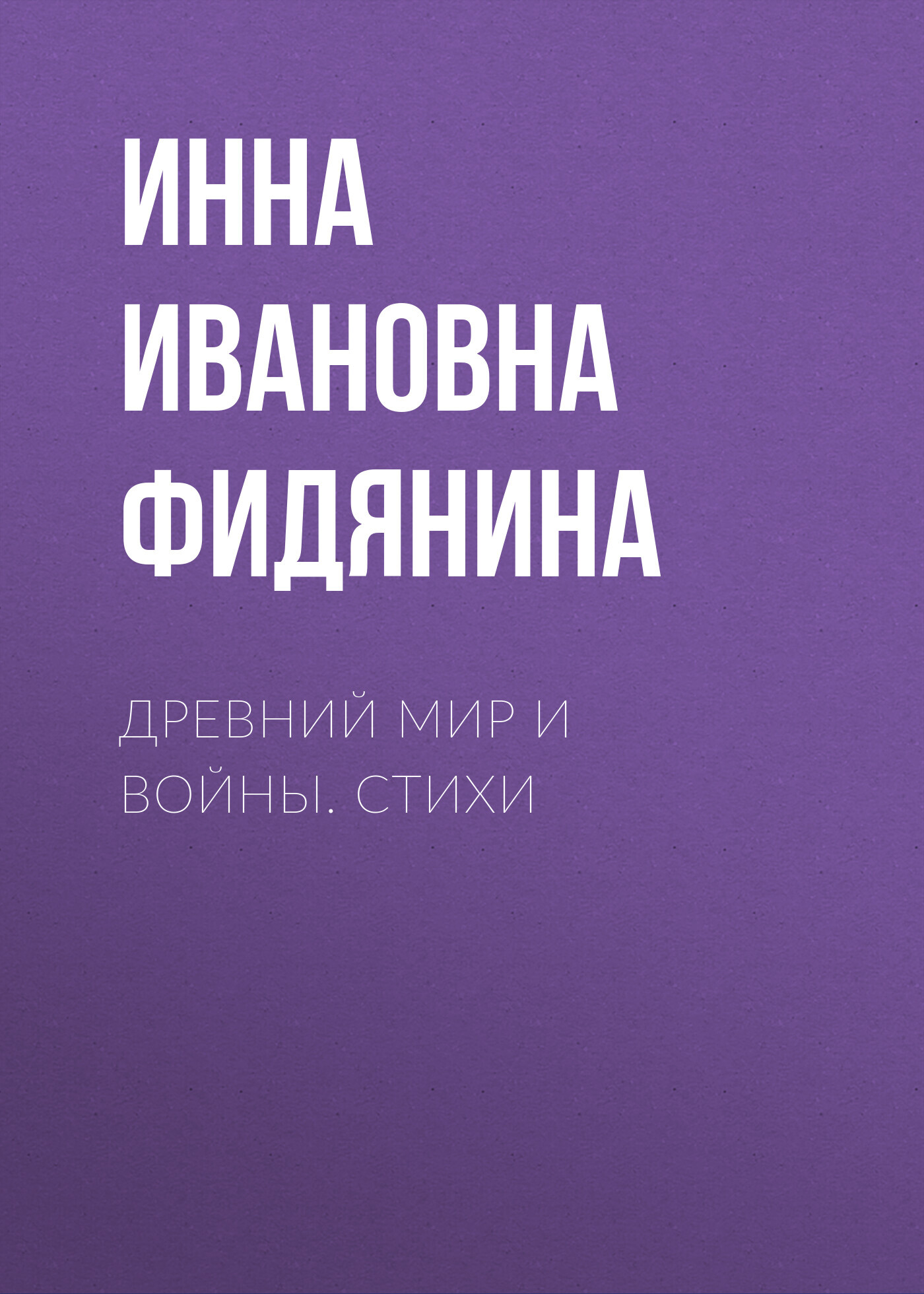нет приливочной
в нашей воде-океане!
— Волн в проруби не бывает,
там раки и щуки
от разной-всяческой скуки.
Нюрка вдруг испугалась,
с сугроба быстро поднялась.
А наши местны мужики
(тоже ведь не дураки)
как её в прорубь закинут!
Христа помянут и выпьют
литра три самогона:
— И что я такой влюблённый
в морозы крещенские?
— Да. Только бабы пошли дюже мелкие!
Я разочарована в любови деревенской
Интересные мужчины —
те, которые в кручине
не бывали никогда.
Я б за ними так пошла:
голая, раздетая,
колхозными заветами
вся, как кукла, скована.
Я разочарована
в любови деревенской.
Танец хочу венский
сплясать с поэтом злобным.
Хлопай, душа, хлопай
голодна пока что.
Хочу чтоб принц бумажный
писал мне… Не напишешь?
Слышишь ты, не слышишь?
Тётя Зоя и валенки
Тётя Зоя
ни с кем не спорит,
она сидит на завалинке,
латает зачем-то валенки,
но от латок её нет прока:
от первого снегу потёкла
её прошлогодняя латка.
Ну и ладно.
А на улице вечер,
и полон скворечник
скворцами,
там деточки с мамой.
И лето!
Жаль, Зоя, ты не раздета.
Забрось свои валенки за забор,
может, припрётся Егор
на дармовщину:
спрячет свою личину
да и дитя «надует».
А оно нам надо? Задует
тётя Зоя сальную свечку,
проверит свои колечки.
И спать в одиночку завалится,
пущай хоть хата развалится,
ей Егора чужого не надо,
ему и его жинка рада.
А мы тоже слезем с завалинки,
подберём свои старые валенки
да пойдём по-взрослому целоваться.
Не век же нам женихаться?
О том, как дети бабам надоели
Дети бабам надоели:
пить хотели, спать. Поели
и давай опять орать.
Так орут, что не унять!
Что же делать, как же быть,
как о детях нам забыть?
И придумали чудилку,
саму страшную страшилку:
не рожать детей и вовсе,
а родив, так сразу бросить!
И пошло-поехало:
сто грехов нагрехали
и ещё немножко,
видала даже кошка!
Но недолго такое было,
Клавка с дедом согрешила,
родила — не отдаёт!
Собрались бабы на сход:
что же делать с Клавкой,
ножом её или булавкой?
Решили просто забить топором.
А Клавка прёт напролом,
забралась на сцену
и орёт: «Где смену
брать вы будете?
Сдохнете или скурвитесь!»
Говорила Клавка час,
а может, два. И сглаз
уходил потихоньку:
трезвели бабы, легонько
дитя того шлёпали.
И нравилось им! Да хлопали
глазищами непонятными:
что за порча такая отвратная
на наши головы навалилась?
Бабы очухались и влюбились
в самого распоследнего старика!
Он еле живой. А я
к мужу приеду уж скоро:
— Ну здравствуй, самый милый
на всей планетище, Вова!
Бабы и тоска вселенская
Жили-были бабы. Так себе жили,
ни хорошо и ни плохо:
никого никогда не любили —
всё меньше мороки!
И в чёрную глядя вселенную,
ни о прошлом не плакали, ни о настоящем,
а думали: «Мы, наверное,
кинутые или пропащие.»
А звёзды такие печальные,
ни в конце пути, ни в начале
«друзей баб» никогда не видели:
девок бросили те иль обидели?
Бабы ж играли в игрушки:
перекладывали подушки
с пустого места на место.
— Чудесное слово «невеста!» —
вздыхали бабы и плакали.
Да жизнь измеряли знаками
на своём нелёгком пути:
надо идти, идти и идти!
Шли бабы долго,
прошли Енисей и Волгу,
вошли в Карибское море:
— Нет нам счастья, утонем!
Тонули они тоже долго:
растолстели бабы, без толку
свои пышные бёдра топили,
лишь веру в погибель убили.
Уселись на берегу, ждут
когда к ним друзья приплывут.
Но лишь глупо бакланы кричали,
да сирены на баб ворчали:
— Не ждите друзей, они с нами,
мы их к себе забрали!
Ох, как давно это было:
Ивана, Степана, Василя…
Тут список имён наполнил
огромное море. «Помним, —
шептали бабы. — Ивана,
Степана, Емелю, Полкана…
Помним, а ну отдайте,
мужиков обратно верстайте!»
И кинулись на сирен своим весом:
каждая сто кило! И бесы
покинули синее море:
сдохли сирены. Вскоре
на сушу вышли Иваны,
Степаны, Емели, Полканы…
И бабам сказали: «Невесты,
даже вес нам ваш интересен!»
А ко мне подошёл мой Вова:
«Ну здравствуй, моя корова,
поправилась ты без меня,
пойдём вес сгонять!» Ну и я
побежала за ним, как тёлка.
Вдруг песня вселенская смолкла,
такая печальная песня.
— Мы новую сочиним, чудесней! —
мужчины хором сказали
и звёздами закидали
весело пляшущих женщин.
Это счастье, ни больше, ни меньше!
Я и длинная повесть
Написала б я длинную повесть
«Мой муж — идиот», но совесть
будет, наверное, мучить,
ведь жить с идиотом скучно,
он мне не скажет: «Милая,
сбегай сегодня за пивом!»
И тело не приласкает.
Он идиот. Чёрт знает,
что это у нас такое!
Молчит он. Снова и снова
падает зеркало в ванной.
Устала я быть незваной
в своём собственном доме.
Я очень хотела к Вове!
Но Вова боится тоже
стать на дебила похожим,
если со мной сойдётся.
Что же мне делать, боже?
Помирай хоть так
Как ты жил дурак, помирай хоть так!
Помирай хоть так: да ни так, ни сяк.
Ты такой-сякой был у маменьки,
ты такой-рассякой был у тятеньки,
у любимой жены слыл не ласковым.
Сам не ласковый, не обласканный,
пожил — что не жил,
попел, поседел
и пошёл пешочком на выселки:
ни друзей не видать, ни Марысеньки!
А есть сын у тебя,
что ругает отца,
всё ругает тебя да плачется:
— И куда ж ты, отец? Да хватит уж!
Вот царю народ да всё смотрит в рот,
а твой народ за тобой не прёт,
не прёт народ, ему не хочется,
даже пристав и тот обхохочется!
А звёзды с неба заплакали:
— Почему ты, мужик, не алкаешь,
не молишься, не просишь милости,
иль на бел свет у тебя нет видимости?
Поморгали звёзды, померкли.
Ты протёр глаза, а на вертеле
болтается Россия-мать.
Потянул рукой. Ан, не достать!
И пошёл пешком до своих выселок,
гол как сокол. Авось не выселят!
А душа его на том же вертеле.
Пропадай родня! Вот вы не верите,
а он жил, как дурак,
да пропал за так.
И горит в огне — нет спасения!
Человечеству не даст прощения.
Чай и разговоры
Чаи гонять — не хворост вязать.
А где его взять?
У нас лишь сосны и ели.
Не, за хворостом мы ходить не хотели.
Мы