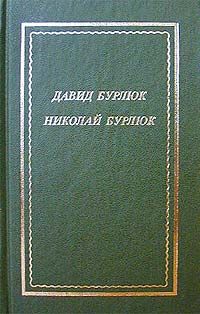Осень («Рыдай осенний дождь рыдай…»)
Op. 19.
Рыдай осенний дождь рыдай
Над вазой раздробленной лета
Что поглощала яркий край
Как счастье затопляет Лета
Седая вечности река
Где дно песчинками века.
Op. 20.
Увечия у вечности?.. неправда…
Нет костылей Урану иль Нептуну
Извечна силачей бравада,
Волны прибоя ЗЛАТОРУНА…
«Глядеть с наклоненного бездну корвета…»
Op. 21.
Глядеть с наклоненного бездну корвета
И думать о дне
Где нет сожалений презренья привета
Акулы одне
Смотреться седины безвестной пучины
Не ночи а век
Где спят бесконечности злой исполины
Модели Калек.
«У пристани качался пакетбот…»
Op. 22.
У пристани качался пакетбот
И капитан и трезвая команда
Молчали полные забот
Готовясь взять седого гранда.
Был поднят якорь и свисток
Летел аукаться с горами
Когда румянился восток
Слегка прикрытый облаками.
Старик угрюмо на корме
Не проронил прощаясь слова
Был верен мраку и зиме
Он оставался к счастью глух
Когда в морей синепокровах
Волны расцвел сияний дух.
1920
«Вопрос: А счастье где?..»
Op. 23.
Вопрос:
А счастье где?
Ответ:
Оно играет в прятки в осенних грубостей неумолимой роще.
Op. 24.
Солнца злобная тележка
По камням стучит.
Пусть — насмешка жизни пешке,
Вскочит лужу — кит.
Плутни солнца; прыг в окошко,
Чтоб тянуть зеленый лук
Из наивного окошка,
Сплетен острых пук.
Солнце — песенник прилежный
Он, горластый новорот,
Захрипел романс ночлежной,
Созывая к счастью сброд.
Солнце — пламенник надземный
В трактор брызнет, бросит луч,
Ненавидя двор тюремный,
Скачет среди талых куч.
Op. 25.
Горы громадная душа
Извечно-детская простая
Туч опоясана кушак,
Тумана клочьями листая…
У ног ее — древнейший лес,
На поколенье поколеньем
Свои обугливши поленья,
До половины склона взлез.
Нет дружбы проще и яснее —
Скалы гранитно-гордо-стана,
Размашистой угрюмой ели,
Волны соленого лимана,
Ушедшей воды хитрой мели
И тканью тонкого тумана…
Op. 26.
К кошнице гор Владивосток —
Еще лишенным перьев света,
Когда дрожа в ладьи восток
Стрелу вонзает Пересвета.
Дом моД…
Рог гоР…
ПотоП…
ПотоП…
Суда объятые пожаром
У мыса Амбр, гелио-троп
К стеклянной клеят коже рам.
1920 г.
Op. 27.
Здесь, где малиновая слива
Не гнет заботности ветвей,
Где шумноград сетях залива
Изнежить толпы кораблей
Посвящается жене моей, Марии Никифоровне
Souvent pour s'amuser
Les hommes d'équi page
prennent des albatreax,
vastes oiseaux des mers.
Baudelaire[31]
Наш бриг недели протрепало,
Мохнатой пеной утомив,
Пока земли надеждой малой
Неясно прозвучал мотив.
Под облаком, внезапным стоном,
Возник туман широкий глас
И альбатросом неуклонным
Тень опрокинута на нас.
И следом — выцветший папирус
Упал, колебляся у ног;
Подняв документ на рапиру,
Я строчки прочитать не мог…
В начале было все неясно,
Что обронил скиталец неб,
Но, занимаясь им всечасно,
Я глубже погружаюсь хлеб,
В мою протянутую руку,
Что положил случайный гость!
Слежу глухих морей науку
И осязаю смысла кость.
Зрю по запискам альбатроса,
Что сведущ обозначил клюв —
Он разрешал любви вопросы,
Взяв лозунг: сердце оголю!..
Разбитый тягостным скитаньем,
Желая отдохнуть хоть раз
У пристани, где колыханье
Напоминает тихий таз…
Но как напрасно тщетно, тщетно…
Все было тягостным на век…
И годы жадно незаметно
Отодвигали счастья брег.
Катились годы — волны тоже,
Старел отважный альбатрос.
Морщины сеть на лик пригожий
Свивали неотвратный трос.
И буря, буря, не как прежде,
Была бессильна против крыл —
В его скитальческой одежде
Образовались скопы дыр
И сердце мерзло над пучиной
И мрачных дум клубился рой
Под нараставшей годовщиной,
Укрывшись жесткою корой.
* * *
Да, вечно, вечно над туманом
Носить стареющие раны…
И одинок на доски палуб
Он обронил попытки жалоб.
1922
Великий Океан. Кагошима
(Из Одиссеи)
Сколько груза для пращи,
Чтоб повергнуть Голиафа?…
Меркнут алые плащи
Закрывая тайну праха.
Можешь бросить малый тот;
Кто же, кто взмахнет скалою,
Незабудкою высот,
Заиграв над головою?
Вспомнил: здесь бежал Улисс…
Многовесельного нефа
Тень скользнула брега близ,
Голосов морское эхо.
На прибрежной выси лоб,
Нагружен большой скалою,
Разъярившийся Циклоп
Скачет башнею живою.
Солнца миг лучей лишив,
Всколыхнул глубоко море,
На валах белизны грив
Взбил бунтующем раздоре.
Был слепец он, не циклоп
И не зрел живой мишени,
Оттого Улисса в гроб
Не загнал полет камений.
* * *
Ночью дымной полутьме
Полифемовой пещеры
Око выколол горе
Ярой лихостью пантеры.
Вот раздался дикий рев,
Глаз шипит под головешкой
И разбойник озверев
Ищет тщетно человечишка.
И быть может пожалел
О циклопчестве впервые
Степгигант, кляня удел,
Не нашел бараньей вые.
Мал, но смелого врага,
Повелителя Итаки.
Утром, чтя скота рога
Вечноставленником мрака.
Ты нес кармане труп блохи —
Малютки времени секунды
Мой вопль достигнет и глухих
Туземцев флегматичной тундры
Часы твои остановясь —
Тебя причислить к мертвецам…
Ведь здесь таинственная связь,
Что не понять и мудрецам:
Пусть океане дохлый кит,
Давно остывшая планета.
Воображенью кто велит
Молчать бесчувственно на это??
Противоречья слишком часты,
Везде кудрявые контрасты —
Великий ум и рядом идиот,
Что комаром болотным день поет.
Огромнотруб архангелов полет,
И тут же труп — клопа помет.
У топота столичных бюскюлад
Мокрицы исподлобья взгляд.
Ты мерил талию беременной блохи?
Ей надобен пюпитр, чтоб поразить весь мир.
О, грохоты заиндевевших лир,
О, девушка — вампир!!!
Из раздела «Сибирские стихи»*
(Чужаку)
Телесное мы чтили наказанье,
Был у дворян конюшни бравокульт
Архангельске, Тифлисе и Рязани
Незыблем был своеобразный пульт.
Пороть под счет! О порки четко-ритмы
Распоясав националь-кумач
Власы девиц, лилейные молитвы
Звезду очей, извивно стон и плач.
Так и теперь — не стих им дай, а розгу
Для воли, для ума, для чувства наконец
Дай злобы и жестокости венец!
Пускай во всем не будет много дня
Иль радости, иль смеха, иль огня —
Лишь кислота б лилась и ела кость до мозга!
1919/20